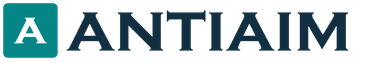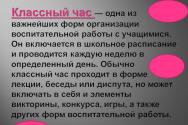Отличались ли эстетические программы пролеткульта. Феномен пролеткульта в культурно-историческом аспекте иванцов денис сергеевич
Практицизм и утилитаризм искусства получил мощное философское обоснование в теориях Пролеткульта . Эта была самая масштабная и значимая для литературно-критического процесса начала 1920-х годов организация. Пролеткульт никак нельзя назвать группировкой – это именно массовая организация, имевшая разветвленную структуру низовых ячеек, насчитывавшая в своих рядах в лучшие периоды существования более 400 тысяч членов, обладавшая мощной издательской базой, имевшей политическое влияние и в СССР, и за рубежом. Во время второго конгресса III Интернационала, проходившего в Москве летом 1920 года, было создано Международное бюро Пролеткульта, куда входили представители Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии. Его председателем был избран А.В.Луначарский, а секретарем – В.Полянский. В обращении Бюро «Братьям пролетариям всех стран» так описывался размах деятельности Пролеткульта: «Пролеткульт издает 15 журналов в России; он издал до 10 миллионов экземпляров своей литературы, принадлежащей исключительно перу пролетарских писателей, и около 3 миллионов экземпляров музыкальных произведений разных наименований, являющихся продуктом творчества пролетарских композиторов» . Действительно, в распоряжении Пролеткульта было более полутора десятка собственных журналов, издававшихся в разных городах. Наиболее заметные среди них - московские «Горн» и «Твори» и петроградский «Грядущее». Важнейшие теоретические вопросы новой литературы и нового искусства ставились на страницах журнала «Пролетарская культура», именно здесь печатались наиболее заметные теоретики организации: А.Богданов, П.Лебедев-Полянский, В.Плетнев, П.Бессалько, П.Керженцев. С деятельностью Пролеткульта связано творчество поэтов А.Гастева, М.Герасимова, И.Садофьеваи многих других. Именно в поэзии участники движения проявили себя наиболее полно.
Судьба Пролеткульта, так же, как и его идеологические и теоретические установки, во многом определены датой его рождения. Организация была создана в 1917 году меж двух революций – Февральской и Октябрьской. Рожденный в этот исторический промежуток, за неделю до октябрьского переворота, Пролеткульт выдвинул совершенно естественный в тех исторических условиях лозунг: независимость от государства. Этот лозунг остался на знаменах Пролеткульта и после Октябрьской революции: декларация независимости от Временного правительства Керенского сменилась декларацией независимости от правительства Ленина. Именно это стало причиной последующих трений между Пролеткультом и партией, которая не могла мириться с существованием независимой от государства культурно-просветительской организации. Становившаяся все более и более резкой полемика завершилась разгромом. Письмо ЦК ВКП(б) «О Пролеткультах» (21 декабря 1920 года) не только раскритиковало теоретические положения организации, но и покончила с идеей независимости: Пролеткульт был влит в Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения т.е. министерство, по современной терминологии) на правах отдела, где и просуществовал неслышно и незаметно до 1932 года, когда группировки были ликвидированы Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
С самого возникновения Пролеткульт ставил перед собой две цели, которые подчас противоречили друг другу. С одной стороны, это была попытка (и вполне плодотворная) привлечения к культуре широких масс, распространение элементарной грамотности, приобщение своих членов через многочисленные студии к азам художественной литературы и искусства. Эта была хорошая цель, весьма благородная и гуманная, отвечавшая потребности людей, отторгнутых ранее от культуры судьбой и социальными условиями, приобщиться к образованию, научиться читать и воспринимать прочитанное, ощутить себя в великом культурно-историческом контексте. С другой стороны, руководители Пролеткульта вовсе не в этом видели конечную цель своей деятельности. Напротив, они ставили задачу создания принципиально новой, ни на что не похожей пролетарской культуры, которая будет твориться пролетариатом для пролетариата же. Она будет новой и по форме, и по содержанию. Эта цель вытекала из самой сущности философии, созданной основоположником пролеткульта А.А.Богдановым, который полагал, что культура предшествующих классов непригодна для пролетариата, т.к. содержит чуждый ему классовый опыт. Мало того, она нуждается в критическом переосмыслении, ибо иначе может быть опасна для классового сознания пролетариата: «…при невыработанности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения, не пролетарий овладевает культурой прошлого, как своим наследством, а она овладевает им, как человеческим материалом для своих задач» . Создание своей, пролетарской, культуры, основанной на пафосе коллективизма, и мыслилось как основная цель и смысл существования организации.
Такая позиция находила отклик в общественном сознании революционной эпохи. Суть в том, что многие современники были склонны мыслить революцию и последовавшие исторические катаклизмы не как социальные преобразования, направленные на улучшение жизни победившего пролетариата и вместе с ним подавляющего большинства народа (такова была идеология оправдания революционного насилия и красного террора). Революция мыслилась как смена эсхатологического масштаба, как мировая метаморфоза, разворачивающаяся не только на земле, но и в космосе. Переустройству подлежит все – даже физические контуры мира. В таких представлениях пролетариат наделялся некой новой мистической ролью – мессии, преобразователя мира в космическом масштабе. Социальная революция мыслилась лишь как первая ступень, открывающая путь пролетариату к коренному пересозданию насущного бытия, включая его физические константы. Именно поэтому столь значительное место в поэзии и изобразительном искусстве Пролеткульта занимают космические мистерии и утопии, связанные с мыслью о преображении планет Солнечной системы и освоении галактических пространств. Представления о пролетариате как о новом мессии характеризовали иллюзорно-утопическое сознание творцов революции в начале 20-х годов.
Такое мироощущение нашло воплощение в философии А.Богданова, одного из основателей и главного теоретика Пролеткульта. Александр Александрович Богданов– человек удивительной и богатой судьбы. Он врач, философ, экономист. Революционный стаж Богдановаоткрывает 1894 год, когда он, студент 2 курса Московского университета, арестовывается и высылается в Тулу за участие в работе студенческого землячества. В этом же году он вступает в РСДРП. Первые годы ХХ века знаменуются для Богдановазнакомством с А.В.Луначарскими В.И.Лениным. В Женеве, в эмиграции, он с 1904 года становится соратником последнего в борьбе с меньшевиками – «новоискровцами», участвует в подготовке 3 съезда РСДРП, избирается в большевистский ЦК. Уже позже отношения с Ленинымобострятся, а в 1909 году передут в открытый философский и политический спор. Именно тогда Ленинв своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм» (которая стала ответом на книгу Богданова«Эмпириомонизм: Статьи по философии. 1904-1906») обрушился на Богдановас резкой критикой и назвал его философию реакционной, увидев в ней субъективный идеализм. Богдановбыл выведен из состава ЦК и исключен из большевистской фракции РСДРП. В составленном им юбилейном сборнике «Десятилетие отлучения от марксизма (1904-1914)» он вспоминал 1909 год как важный этап своего «отлучения». Октябрьский переворот Богдановне принял, но остался до конца дней верен своему главному делу – утверждению пролетарской культуры. В 1920 году Богдановаждет новый удар: по инициативе Ленинаразворачивается острая критика «богдановщины», а в 1923 году, уже после разгрома Пролеткульта, он подвергается аресту, который закрыл ему доступ в рабочую среду. Для Богданова, который всю жизнь посвятил рабочему классу, почти обожествляя его, это был жесточайший удар. После освобождения Богдановне вернулся к теоретической деятельности и практической работе в сфере пролетарской культуры, но сосредоточился на медицине. Он обращается к идее переливания крови, трактуя ее не только в медицинском, но и социально-утопическом аспекте (полагая взаимный обмен кровью средством создания единой коллективной целостности людей, в первую очередь, пролетариата) и в 1926 году организует «Институт борьбы за жизнеспособность» (Институт переливания крови). Мужественный и честный человек, прекрасный ученый, мечтатель и утопист, он близок к раскрытию загадки группы крови. В 1928 году, поставив на себе эксперимент, перелив чужую кровь, он погиб.
В основе деятельности Пролеткульта – так называемая «организационная теория» Богданова, которая выражена в главной его книге: «Тектология: Всеобщая организационная наука» (1913-22). Философская суть «организационной теории» состоит в следующем: мир природы независимо от человеческого сознания не существует, т.е. он не существует так, как мы воспринимаем его. В сущности своей действительность хаотична, неупорядочена, непознаваема. Однако мы видим мир находящимся в некой системе, отнюдь не как хаос, напротив, имеем возможность наблюдать его гармонию и даже совершенство. Это происходит потому, что мир приведен в порядок сознанием людей. Как происходит этот процесс?
Отвечая на этот вопрос, Богдановвводит в свою философскую систему важнейшую для нее категорию – категорию опыта. Именно наш опыт, и в первую очередь «опыт социально-трудовой деятельности», «коллективная практика людей» помогает нашему сознанию упорядочить действительность. Иными словами, мы видим мир таким, каким диктует нам наш жизненный опыт – личный, социальный, культурный и т.д.
Где же тогда истина? Ведь у каждого свой опыт, следовательно, каждый из нас видит мир по-своему, упорядочивая его иначе, чем другой. Следовательно, объективной истины не существует, и наши представления о мире весьма субъективны и не могут соответствовать действительности хаоса, в котором мы пребываем. Важнейшая философская категория истины у Богданованаполнялась релятивистским смыслом, становилась производной от опыта человека. Гносеологический принцип релятивности (относительности) познания абсолютизировался, что ставило под сомнение факт существования истины, независимой от познающего, от его опыта, взгляда на мир.
«Истина, - утверждал Богдановв книге «Эмпириомонизм», - есть живая форма опыта… Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины. Истина есть идеологическая форма – организующая форма человеческого опыта». Именно эта, совершенно релятивистская посылка, и дала возможность Ленину говорить о Богданове как о субъективном идеалисте, последователе Махав философии. «Если истина есть только идеологическая форма, - возражал он Богданову в книге «Материализм и эмпириокритицизм», - то, значит, не может быть объективной истины», и приходил к выводу, что «отрицание объективной истины Богдановыместь агностицизм и субъективизм».
Разумеется, Богдановпредвидел упрек в субъективизме и пытался отвести его, определяя критерий истины: общезначимость. Иными словами, в качестве критерия истины утверждается не частный опыт отдельного человека, а общезначимый, социально организованный, т.е. опыт коллектива, накопленный в результате социально-трудовой деятельности. Высшей формой такого опыта, приближающего нас к истине, оказывается классовый опыт, и в первую очередь – социально-исторический опыт пролетариата. Его опыт несравним с опытом любого другого класса, поэтому и истину он обретает свою, а вовсе не заимствует ту, что была несомненна для предшествующих классов и групп. Однако ссылка не на личный опыт, а на коллективный, социальный, классовый, вовсе не убеждала Ленина, главного критика его философии. «Думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества, или опыта одного лица опытом социально организованным, это все равно, что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной кампанией».
Именно «организационная теория», стержень философии А.А.Богданова, легла в основу планов строительства пролетарской культуры. Прямым ее следствием оказалось то, что социально-классовый опыт пролетариата прямо противопоставлялся опыту всех других классов. Отсюда делался вывод о том, что искусство прошлого или настоящего, созданное в другом классовом лагере, непригодно для пролетариата, так как отражает совершенно иной и чуждый рабочим социальный классовый опыт. Оно бесполезно или даже прямо вредно для рабочего. На этом основании Богданови Пролеткульт приходили к тотальному отказу от классического наследия.
Следующим шагом был лозунг обособления пролетарской культуры от любой другой, достижение ею полной самостоятельности. Его результатом стало стремление к полной самоизоляции и кастовость пролетарских художников. В результате Богданови вслед за ним другие теоретики Пролеткульта утверждали, что пролетарская культура является специфическим и на всех уровнях обособленным явлением, порожденным совершенно обособленным характером производственного и социально-психологического бытия пролетариата. При этом речь шла не только о так называемой «буржуазной» литературе прошлого и настоящего, но и о культуре тех классов и социальных групп, которые мыслились как союзники пролетариата, будь то крестьянство или интеллигенция. Их искусство тоже отвергалось как выражающее иной социальный опыт. М.Герасимов, поэт и активный участник Пролеткульта, так образно обосновывал право пролетариата на классовую самоизоляцию: «Если мы хотим, чтобы наш горн пылал, мы будем бросать в его огонь уголь, нефть, а не крестьянскую солому и интеллигентские щепочки, от которых будет только чад, не более». И дело здесь не только в том, что уголь и нефть, продукты, добываемые пролетариатом и используемые в крупном машинном производстве, противопоставлены «крестьянской соломе» и «интеллигентским щепочкам». Дело в том, что это высказывание прекрасно демонстрирует ту классовую надменность, которая характеризовала участников пролеткульта, когда слово «пролетарий», по словам современников, звучало так же чванливо, как еще несколько лет назад слово «дворянин», «офицер», «белая кость».
С точки зрения теоретиков организации, исключительность пролетариата, его взгляда на мир, его психологию определяет специфика крупного индустриального производства, которая и формирует этот класс иначе, чем все остальные. А.Гастевполагал, что «для нового индустриального пролетариата, для его психологии, его культуры прежде всего характерна сама индустрия. Корпуса, трубы, колонны, мосты, краны и вся сложная конструктивность новых построек и предприятий, катастрофичность и неумолимая динамика – вот что пронизывает обыденное сознание пролетариата. Вся жизнь современной индустрии пропитана движением, катастрофой, вделанной в то же время в рамки организованности и строгой закономерности. Катастрофа и динамика, скованные грандиозным ритмом, - вот основные, осеняющие моменты пролетарской психологии» . Они-то, по мысли Гастева, и обуславливают исключительность пролетариата, предопределяют его мессианскую роль преобразователя вселенной.
В исторической части своего труда А.Богдановвыделял три типа культуры: авторитарную, расцвет которой пришелся на рабовладельческую культуру античности; индивидуалистическую, характерную для капиталистического способа производства; коллективно-трудовую, которая создается пролетариатом в условиях крупного индустриального производства. Но самым главным (и губительным для всей идеи Пролеткульта) в исторической концепции Богдановаоказывалась мысль о том, что никакого взаимодействия и исторической преемственности между этими типами культуры не может быть: в корне различен классовый опыт людей, создававших произведения культуры в различные эпохи. Это вовсе не значит, по мнению Богданова, что пролетарский художник не может и не должен знать предшествующей культуры. Напротив, может и должен. Дело в другом: если он не хочет, чтобы предшествующая культура закабалила и поработила его, заставила смотреть на мир глазами ушедших в прошлое или реакционных классов, он должен отнестись к ней примерно так, как грамотный и убежденный атеист относится к религиозной литературе. Она не может быть полезна, она не имеет содержательной ценности. То же и классическое искусство: оно совершенно бесполезно для пролетариата, не имеет для него ни малейшего прагматического смысла. «Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовывать и воспитывать пролетариат, как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал».
Исходя из этого тезиса теоретики Пролеткульта формулировали основную задачу, стоящую перед пролетариатом в области культуры: лабораторное выращивание новой, «с иголочки», никогда не существовавшей и ни на что прежнее не похожей пролетарской культуры и литературы. При этом одним из важнейших условий была ее полная классовая стерильность, недопущение к ее созданию других классов, социальных слоев и групп. «По самому существу своей социальной природы союзники по диктатуре (речь, вероятно, идет о крестьянстве) не способны понять новой духовной культуры рабочего класса», - утверждал Богданов. Поэтому рядом с пролетарской культурой он выделял еще и культуру крестьянскую, солдатскую и др. Споря с Кирилловымпо поводу его стихов: «Во имя нашего завтра//Разрушим музеи,//Сожжем Рафаэля,//Растопчем искусства цветы», он отказывал ему в том, что это стихотворение выражает психологию рабочего класса. Мотивы огня, разрушения, уничтожения скорее в духе солдата, а не рабочего.
Организационная теория Богдановаобусловила идею генетической связи художника со своим классом – связи фатальной и неподдающейся разрыву. Мировоззрение писателя, его идеология и философские позиции – все это, в концепциях Пролеткульта, было предопределено единственно лишь его классовой принадлежностью. Подсознательная, нутряная связь творчества художника с его классом не могла быть преодолена никакими осознанными усилиями ни самого автора, ни внешними влияниями, скажем, идеологическим и воспитательным воздействием со стороны партии. Невозможными и бессмысленными представлялись перевоспитание писателя, партийное влияние, его работа над своей идеологией и мировоззрением. Эта черта укоренилась в литературно-критическом сознании эпохи и характеризовала все вульгарно-социологические построения 20-х – первой половины 30-х годов. Рассматривая, например, роман «Мать» М.Горького, целиком, как известно, посвященный проблематике рабочего революционного движения, Богдановотказывал ему в праве быть явлением пролетарской культуры: опыт Горькогонамного ближе к буржуазно-либеральной среде, чем к пролетарской. Именно по этой причине творцом пролетарской культуры мыслился потомственный пролетарий, с чем связано и плохо скрываемое пренебрежение к представителям творческой интеллигенции, к писателям, вышедшим из иной социальной среды, чем пролетарская.
В концепциях Пролеткульта важнейшей функцией искусства становилась, как писал Богданов, «организация социального опыта пролетариата»; именно через искусство пролетариат осознает себя; искусство обобщает его социально-классовый опыт, воспитывает и организовывает пролетариат как особый класс.
Ложные философские посылки вождей Пролеткульта предопределили и характер творческих изысканий в его низовых ячейках. Требования небывалого искусства, невиданного и по форме, и по содержанию, заставляли художников его студий заниматься самыми невероятными изысканиями, формальными экспериментами, поисками небывалых форм условной образности, что приводило их к эпигонской эксплуатации модернистских и формалистических приемов. Так наметился раскол между руководителями Пролеткультов и его членами, людьми, только что приобщившимися к элементарной грамотности и впервые обратившимися к литературе и искусству. Известно, что для человека неискушенного наиболее понятно и притягательно как раз реалистическое искусство, воссоздающее жизнь в формах самой жизни. Поэтому произведения, созданные в студиях Пролеткульта, были просто непонятны его рядовым членам, вызывали недоумение и раздражение. Именно это противоречие между творческими установками пролеткульта и потребностями его рядовых членов было сформулировано в Резолюции ЦК РКП(б) «О Пролеткультах». Ей предшествовала заметка Ленина, в которой он определил самую главную практическую ошибку в области строительства новой культуры своего давнего союзника, затем оппонента и политического противника, Богданова: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» . А в письме ЦК, предопределившем дальнейшую судьбу Пролеткульта (вхождение в Наркомпрос на правах отдела), была охарактеризована художественная практика его авторов: «Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.
Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» .
Трудно не согласиться с подобной трактовкой практической деятельности Пролеткульта в первые годы советской власти. Однако ликвидация Пролеткульта как самостоятельной организации и подчинение его государству имело и другую причину: подчинение литературы и культуры государственному контролю.
Практицизм и утилитаризм искусства получил мощное философское обоснование в теориях Пролеткульта. Эта была самая масштабная и значимая для литературно-критического процесса начала 1920-х годов организация. Пролеткульт никак нельзя назвать группировкой - это именно массовая организация, имевшая разветвленную структуру низовых ячеек, насчитывавшая в своих рядах в лучшие периоды существования более 400 тысяч членов, обладавшая мощной издательской базой, имевшей политическое влияние и в СССР, и за рубежом. Во время Второго конгресса III Интернационала, проходившего в Москве летом 1920 года, было создано Международное бюро Пролеткульта, куда входили представители Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Италии. Его председателем был избран А. В. Луначарский, а секретарем - П. И. Лебедев-Полянский. В обращении Бюро «Братьям пролетариям всех стран» так описывался размах деятельности Пролеткульта: «Пролеткульт издает 15 журналов в России; он издал до 10 миллионов экземпляров своей литературы, принадлежащей исключительно перу пролетарских писателей, и около 3 миллионов экземпляров музыкальных произведений разных наименований, являющихся продуктом творчества пролетарских композиторов» . Действительно, в распоряжении Пролеткульта было более полутора десятка собственных журналов, издававшихся в разных городах. Наиболее заметные среди них - московские «Горн» и «Твори» и петроградский «Грядущее». Важнейшие теоретические вопросы новой литературы и нового искусства ставились на страницах журнала «Пролетарская культура», именно здесь печатались наиболее заметные теоретики организации: А. Богданов, П. Лебедев-Полянский, В. Плетнев, П. Бессалько, П. Керженцев. С деятельностью Пролеткульта связано творчество поэтов А. Гастева, М. Герасимова, И. Садофьева и многих других. Именно в поэзии участники движения проявили себя наиболее полно.
Судьба Пролеткульта, так же, как и его идеологические и теоретические установки, во многом определены датой его рождения. Организация была создана в 1917 году меж двух революций - Февральской и Октябрьской. Рожденный в этот исторический промежуток, за неделю до Октябрьского переворота, Пролеткульт выдвинул совершенно естественный в тех исторических условиях лозунг: независимость от государства. Этот лозунг остался на знаменах Пролеткульта и после Октябрьской революции: декларация независимости от Временного правительства Керенского сменилась декларацией независимости от правительства Ленина. Именно это стало причиной последующих трений между Пролеткультом и партией, которая не могла мириться с существованием независимой от государства культурно-просветительской организации. Становившаяся все более и более резкой полемика завершилась разгромом. Письмо ЦК ВКП(б) «О Пролеткультах» (21 декабря 1920 года) не только раскритиковало теоретические положения организации, но и покончила с идеей независимости: Пролеткульт был влит в Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения, т. е. министерство по современной терминологии) на правах отдела, где и просуществовал неслышно и незаметно до 1932 года, когда группировки были ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
С самого возникновения Пролеткульт ставил перед собой две цели, которые подчас противоречили друг другу. С одной стороны, это была попытка (и вполне плодотворная) привлечения к культуре широких масс, распространение элементарной грамотности, приобщение своих членов через многочисленные студии к азам художественной литературы и искусства. Эта была хорошая цель, весьма благородная и гуманная, отвечавшая потребности людей, отторгнутых ранее от культуры судьбой и социальными условиями, приобщиться к образованию, научиться читать и воспринимать прочитанное, ощутить себя в великом культурно-историческом контексте. С другой стороны, руководители Пролеткульта вовсе не в этом видели конечную цель своей деятельности. Напротив, они ставили задачу создания принципиально новой, ни на что не похожей пролетарской культуры, которая будет твориться пролетариатом для пролетариата же. Она будет новой и по форме, и по содержанию. Эта цель вытекала из самой сущности философии, созданной основоположником Пролеткульта А. А. Богдановым, который полагал, что культура предшествующих классов непригодна для пролетариата, так как содержит чуждый ему классовый опыт. Мало того, она нуждается в критическом переосмыслении, ибо иначе может быть опасна для классового сознания пролетариата: «...при невырабо- танности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения, не пролетарий овладевает культурой прошлого, как своим наследством, а она овладевает им, как человеческим материалом для своих задач» . Создание своей, пролетарской культуры, основанной на пафосе коллективизма, и мыслилось как основная цель и смысл существования организации.
Такая позиция находила отклик в общественном сознании революционной эпохи. Суть в том, что многие современники были склонны осмысливать революцию и последовавшие исторические катаклизмы не как социальные преобразования, направленные на улучшение жизни победившего пролетариата и вместе с ним подавляющего большинства народа (такова была идеология оправдания революционного насилия и красного террора). Революция мыслилась как смена эсхатологического масштаба, как мировая метаморфоза, разворачивающаяся не только на земле, но и в космосе. Переустройству подлежит все - даже физические контуры мира. В таких представлениях пролетариат наделялся некоей новой мистической ролью - мессии, преобразователя мира в космическом масштабе. Социальная революция мыслилась лишь как первая ступень, открывающая путь пролетариату к коренному пересозданию насущного бытия, включая его физические константы. Именно поэтому столь значительное место в поэзии и изобразительном искусстве Пролеткульта занимают космические мистерии и утопии, связанные с мыслью о преображении планет Солнечной системы и освоении галактических пространств. Представления о пролетариате как о новом мессии характеризовали иллюзорно-утопическое сознание творцов революции в начале 1920-х годов.
Такое мироощущение нашло воплощение в философии А. Богданова, одного из основателей и главного теоретика Пролеткульта. Александр Александрович Богданов - человек удивительной и богатой судьбы. Он врач, философ, экономист. Революционный стаж Богданова начинается в 1894 году, когда он, студент второго курса Московского университета, был арестован и выслан в Тулу за участие в работе студенческого землячества. В этом же году он вступает в РСДРП. Первые годы XX века знаменуются для Богданова знакомством с А. В. Луначарским и В. И. Лениным. В Женеве в эмиграции он с 1904 года становится соратником последнего в борьбе с меньшевиками - «новоискровцами», участвует в подготовке III съезда РСДРП, избирается в большевистский ЦК. Уже позже его отношения с Лениным обострятся, а в 1909 году перейдут в открытый философский и политический спор. Именно тогда Ленин в своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая стала ответом на книгу Богданова «Эмпириомонизм: Статьи по философии. 1904-1906», обрушился на Богданова с резкой критикой и назвал его философию реакционной, увидев в ней субъективный идеализм. Богданов был выведен из состава ЦК и исключен из большевистской фракции РСДРП. В составленном им юбилейном сборнике «Десятилетие отлучения от марксизма (1904-1914)» он вспоминал 1909 год как важный этап своего «отлучения». Октябрьский переворот Богданов не принял, но остался до конца дней верен своему главному делу - утверждению пролетарской культуры. В 1920 году Богданова ждет новый удар: по инициативе Ленина разворачивается острая критика «богдановщины», а в 1923 году, уже после разгрома Пролеткульта, он подвергается аресту, который закрыл ему доступ в рабочую среду. Для Богданова, который всю жизнь посвятил рабочему классу, почти обожествляя его, это был жесточайший удар. После освобождения Богданов не вернулся к теоретической деятельности и практической работе в сфере пролетарской культуры, но сосредоточился на медицине. Он обращается к идее переливания крови, трактуя ее не только в медицинском, но и социально-утопическом аспекте, полагая взаимный обмен кровью средством создания единой коллективной целостности людей, в первую очередь пролетариата, и в 1926 году организует «Институт борьбы за жизнеспособность» (Институт переливания крови). Мужественный и честный человек, прекрасный ученый, мечтатель и утопист, он был близок к раскрытию загадки группы крови. В 1928 году, поставив на себе эксперимент, перелив чужую кровь, он погиб.
В основе деятельности Пролеткульта - так называемая «организационная теория» Богданова, которая выражена в главной его книге: «Тектология: Всеобщая организационная наука» (1913-1922). Философская суть «организационной теории» состоит в следующем: мир природы независимо от человеческого сознания не существует, т. е. он не существует так, как мы воспринимаем его. В сущности своей действительность хаотична, не упорядочена, непознаваема. Однако мы видим мир находящимся в некой системе, отнюдь не как хаос, напротив, имеем возможность наблюдать его гармонию и даже совершенство. Это происходит потому, что мир приведен в порядок сознанием людей. Как происходит этот процесс?
Отвечая на этот вопрос, Богданов вводит в свою философскую систему важнейшую для нее категорию - категорию опыта. Именно наш опыт, и в первую очередь «опыт социально-трудовой деятельности», «коллективная практика людей», помогает нашему сознанию упорядочить действительность. Иными словами, мы видим мир таким, каким диктует нам наш жизненный опыт - личный, социальный, культурный и т. д.
Где же тогда истина? Ведь у каждого свой опыт, следовательно, каждый из нас видит мир по-своему, упорядочивая его иначе, чем другой. Следовательно, объективной истины не существует и наши представления о мире весьма субъективны и не могут соответствовать действительности хаоса, в котором мы пребываем. Важнейшая философская категория истины у Богданова наполнялась релятивистским смыслом, становилась производной от опыта человека. Гносеологический принцип релятивности (относительности) познания абсолютизировался, что ставило под сомнение факт существования истины, независимой от познающего, от его опыта, взгляда на мир.
«Истина, - утверждал Богданов в книге “Эмпириомонизм”, - есть живая форма опыта. <...> Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины. Истина есть идеологическая форма - организующая форма человеческого опыта». Именно эта, совершенно релятивистская, посылка и дала возможность Ленину говорить о Богданове как о субъективном идеалисте, последователе Э. Маха в философии. «Если истина есть только идеологическая форма, - возражал он Богданову в книге “Материализм и эмпириокритицизм”, - то, значит, не может быть объективной истины», и приходил к выводу, что «отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм».
Разумеется, Богданов предвидел упрек в субъективизме и пытался отвести его, определяя критерий истины: общезначимость. Иными словами, в качестве критерия истины утверждается не частный опыт отдельного человека, а общезначимый, социально организованный, т. е. опыт коллектива, накопленный в результате социально-трудовой деятельности. Высшей формой такого опыта, приближающего нас к истине, оказывается классовый опыт, и в первую очередь социально-исторический опыт пролетариата. Его опыт несравним с опытом любого другого класса, поэтому и истину он обретает свою, а вовсе не заимствует ту, что была несомненна для предшествующих классов и групп. Однако ссылка не на личный опыт, а на коллективный, социальный, классовый, вовсе не убеждала Ленина, главного критика его философии: «Думать, что философский идеализм исчезает от замены сознания индивида сознанием человечества, или опыта одного лица опытом социально организованным, это все равно, что думать, будто исчезает капитализм от замены одного капиталиста акционерной кампанией».
Именно «организационная теория», стержень философии А. А. Богданова, легла в основу планов строительства пролетарской культуры. Прямым ее следствием оказалось то, что социально-классовый опыт пролетариата прямо противопоставлялся опыту всех других классов. Отсюда делался вывод о том, что искусство прошлого или настоящего, созданное в другом классовом лагере, непригодно для пролетариата, так как отражает совершенно иной и чуждый рабочим социальный классовый опыт. Оно бесполезно или даже прямо вредно для рабочего. На этом основании Богданов и Пролеткульт приходили к тотальному отказу от классического наследия.
Следующим шагом был лозунг обособления пролетарской культуры от любой другой, достижение ею полной самостоятельности. Его результатом стало стремление к полной самоизоляции и кастовость пролетарских художников. В результате Богданов и вслед за ним другие теоретики Пролеткульта утверждали, что пролетарская культура является специфическим и на всех уровнях обособленным явлением, порожденным совершенно обособленным характером производственного и социально-психологического бытия пролетариата. При этом речь шла не только о так называемой «буржуазной» литературе прошлого и настоящего, но и о культуре тех классов и социальных групп, которые мыслились как союзники пролетариата, будь то крестьянство или интеллигенция. Их искусство тоже отвергалось как выражающее иной социальный опыт. М. Герасимов, поэт и активный участник Пролеткульта, так образно обосновывал право пролетариата на классовую самоизоляцию: «Если мы хотим, чтобы наш горн пылал, мы будем бросать в его огонь уголь, нефть, а не крестьянскую солому и интеллигентские щепочки, от которых будет только чад, не более». И дело здесь не только в том, что уголь и нефть, продукты, добываемые пролетариатом и используемые в крупном машинном производстве, противопоставлены «крестьянской соломе» и «интеллигентским щепочкам». Дело в том, что это высказывание прекрасно демонстрирует ту классовую надменность, которая характеризовала Пролеткульт, когда слово «пролетарий», по словам современников, звучало так же чванливо, как еще несколько лет назад слово «дворянин», «офицер», «белая кость».
С точки зрения теоретиков организации, исключительность пролетариата, его взгляда на мир, его психологию определяет специфика крупного индустриального производства, которая и формирует этот класс иначе, чем все остальные. А. Гастев полагал, что «для нового индустриального пролетариата, для его психологии, его культуры прежде всего характерна сама индустрия. Корпуса, трубы, колонны, мосты, краны и вся сложная конструктивность новых построек и предприятий, катастрофичность и неумолимая динамика - вот что пронизывает обыденное сознание пролетариата. Вся жизнь современной индустрии пропитана движением, катастрофой, вделанной в то же время в рамки организованности и строгой закономерности. Катастрофа и динамика, скованные грандиозным ритмом, - вот основные, осеняющие моменты пролетарской психологии» . Они-то, по мысли Гастева, и обусловливают исключительность пролетариата, предопределяют его мессианскую роль преобразователя вселенной.
В исторической части своего труда А. Богданов выделял три типа культуры: авторитарную, расцвет которой пришелся на рабовладельческую культуру античности; индивидуалистическую, характерную для капиталистического способа производства; коллективно-трудовую, которая создается пролетариатом в условиях крупного индустриального производства. Но самой главной (и губительной для всей идеи Пролеткульта) в исторической концепции Богданова оказывалась мысль о том, что никакого взаимодействия и исторической преемственности между этими типами культуры не может быть: в корне различен классовый опыт людей, создававших произведения культуры в различные эпохи. Это вовсе не значит, по мнению Богданова, что пролетарский художник не может и не должен знать предшествующей культуры. Напротив, может и должен. Дело в другом: если он не хочет, чтобы предшествующая культура закабалила и поработила его, заставила смотреть на мир глазами ушедших в прошлое или реакционных классов, он должен отнестись к ней примерно так, как грамотный и убежденный атеист относится к религиозной литературе. Она не может быть полезна, она не имеет содержательной ценности. То же и классическое искусство: оно совершенно бесполезно для пролетариата, не имеет для него ни малейшего прагматического смысла. «Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовывать и воспитывать пролетариат, как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал».
Исходя из этого тезиса теоретики Пролеткульта формулировали основную задачу, стоящую перед пролетариатом в области культуры: лабораторное выращивание новой, «с иголочки», никогда не существовавшей и ни на что прежнее не похожей пролетарской культуры и литературы. При этом одним из важнейших условий была ее полная классовая стерильность, недопущение к ее созданию других классов, социальных слоев и групп. «По самому существу своей социальной природы союзники по диктатуре (речь, вероятно, идет о крестьянстве) не способны понять новой духовной культуры рабочего класса», - утверждал Богданов. Поэтому рядом с пролетарской культурой он выделял еще и культуру крестьянскую, солдатскую и др. Споря со своим единомышленником - поэтом В. Т. Кирилловым по поводу его стихов: «Во имя нашего завтра // Разрушим музеи, // Сожжем Рафаэля, // Растопчем искусства цветы», он отказывал ему в том, что это стихотворение выражает психологию рабочего класса. Мотивы огня, разрушения, уничтожения скорее в духе солдата, а не рабочего.
Организационная теория Богданова обусловила идею генетической связи художника со своим классом - связи фатальной и неподдаю- щейся разрыву. Мировоззрение писателя, его идеология и философские позиции - все это, в концепциях Пролеткульта, было предопределено единственно лишь его классовой принадлежностью. Подсознательная, нутряная связь творчества художника с его классом не могла быть преодолена никакими осознанными усилиями ни самого автора, ни внешними влияниями, скажем, идеологическим и воспитательным воздействием со стороны партии. Невозможными и бессмысленными представлялись перевоспитание писателя, партийное влияние, его работа над своей идеологией и мировоззрением. Эта черта укоренилась в литературно-критическом сознании эпохи и характеризовала все вульгарно-социологические построения 1920-х - первой половины 1930-х годов. Рассматривая, например, роман «Мать» М. Горького, целиком, как известно, посвященный проблематике рабочего революционного движения, Богданов отказывал ему в праве быть явлением пролетарской культуры: опыт Горького, по мнению Богданова, намного ближе к буржуазно-либеральной среде, чем к пролетарской. Именно по этой причине творцом пролетарской культуры мыслился потомственный пролетарий, с чем связано и плохо скрываемое пренебрежение к представителям творческой интеллигенции, к писателям, вышедшим из иной социальной среды, чем пролетарская.
В концепциях Пролеткульта важнейшей функцией искусства становилась, как писал Богданов, «организация социального опыта пролетариата»; именно через искусство пролетариат осознает себя; искусство обобщает его социально-классовый опыт, воспитывает и организовывает пролетариат как особый класс.
Ложные философские посылки вождей Пролеткульта предопределили и характер творческих изысканий в его низовых ячейках. Требования небывалого искусства, невиданного и по форме, и по содержанию, заставляли художников его студий заниматься самыми невероятными изысканиями, формальными экспериментами, поисками небывалых форм условной образности, что приводило их к эпигонской эксплуатации модернистских и формалистических приемов. Так наметился раскол между руководителями Пролеткульта и его членами, людьми, только что приобщившимися к элементарной грамотности и впервые обратившимися к литературе и искусству. Известно, что для человека неискушенного наиболее понятно и притягательно как раз реалистическое искусство, воссоздающее жизнь в формах самой жизни. Поэтому произведения, созданные в студиях Пролеткульта, были просто непонятны его рядовым членам, вызывали недоумение и раздражение. Именно это противоречие между творческими установками Пролеткульта и потребностями его рядовых членов было сформулировано в резолюции ЦК РКП (б) «О Пролеткультах». Ей предшествовала заметка Ленина, в которой он определил самую главную практическую ошибку в области строительства новой культуры своего давнего союзника, затем оппонента и политического противника, Богданова: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» . А в письме ЦК, предопределившем дальнейшую судьбу Пролеткульта (вхождение в Наркомпрос на правах отдела), была охарактеризована художественная практика его авторов: «Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.
Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм)» .
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 462.
ТЕМА: Литературные группы 1920-х гг.
Цель: Ознакомить студентов с литературной ситуацией 1920-х гг. Дать представление о многообразии литературных школ и направлений в этот период.
Методы: исторический, описательный, сопоставительный, аналитический.
Тип лекции : информационно-проблемная.
Ключевые слова: «Серапионовы братья», «Перевал», пролеткульт, "Кузница", ВАПП, РАПП, Леф, ОБЭРИУ
ПЛАН
1. Историко-литературная обстановка 20-х гг.
2. Продолжение традиций символизма в творчестве объединения «Скифы»
3. Левый фронт искусств и деятельность Маяковского
4. "Ассоциация вольнодумцев" и литература имажинизм.
5. Конструктивизм - авангардное течение.
6. Деятельность Литературных групп
· «Серапионовы братья».
· «Перевал»
· Пролеткульт
· "Кузница" и ВАПП
· РАПП
· ОБЭРИУ
7. Ликвидация литературных групп
ЛИТЕРАТУРА
1. Дон-Кихоты 20-х гг.: «Перевал» и судьбы его идей. – М., 2001
2. Берковский, создаваемый литературой. – М.: Советский писатель, 1989.
3. «Серапионовы братья» / Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. Учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. . – СПб.: Логос; М.: Высшая школа, 2002.
4. Избранные статьи о литературе. – М., 1982.
Оригинальны и прозаические произведения примкнувшего к группе бывшего советского акмеиста - К. Вагинова "Козлиная песнь", "Труды и дни Свистонова", "Бомбочада", а также близкого к Добычина.
Судьба всех обэриутов трагична: А. Ввведенский и Д. Хармс, признанные лидеры группы - в 1929 г. были арестованы и сосланы в Курск; в 1941 г. - повторный арест и гибель в Гулаге. Н. Олейникова расстреляли в 1938 г., Н. Заболоцкий (1провел в Гулаге несколько лет. Добычина довели до самоубийства. Но рано оборвалась жизнь и оставшихся на свободе: в начале 30-х г. г. от туберкулеза умерли К. Вагинов и Ю. Владимиров. Б. Левин погиб на фронте.
В русском литературоведении до сих пор нет капитальных обобщающих работ по Обэриу, хотя и появились статьи и научные сборники. Отметим книгу швейцарского исследователя Ж.-Ф. Жаккара, установившего связь поэтов этой группы с авангардом 10-х - начала 20-х г. г. Таким образом ОБЭРИУ выступает как связующее звено между авангардом и современным постмодернизмом.
Таким образом, группировки организационно оформляли различные тенденции художественного развития: реалистическую ориентацию "Перевала", своеобразный неоромантизм неоромантизм "Кузницы" и комсомольских поэтов (С. Кормилов не без основания возражает против определения "романтизм", так как в центре романтизма - личность, а пролетарские поэты опоэтизировали коллективное "мы", но романтизированное изображение коллектива наметилась еще у Горького и, очевидно, можно говорить о какой-то "мутации" романтизма). Пролетарский реализм РАПП, при всех полемических выпадах против Горького, продолжал линию горьковской "Матери"; не случайно в советский период была популярна тема исследования " Толстого и М. Горького в "Разгроме" А. Фадеева". ЛЕФ, имажинизм в его крайнем выражении, конструктивизм, обэриу представляли литературный авангард. "Серапионовы братья" демонстрировали плюрализм художественных тенденций. Но, разумеется, эти ведущие художественные тенденции были значительно шире отдельных группировок, они прослеживаются и в творчестве многих писателей, которые вообще ни в какие группировки не входили.
Мы охарактеризовали литературные группы, возникшие в крупных культурных центрах - в Москве и Петрограде. Краткую характеристику литературных групп Сибири и Дальнего Востока можно найти в докладе В. Зазубрина, который особо выделял омских имажинистов, дальневосточных футуристов и группу писателей при журнале "Сибирские огни". Свои литературные объединения были в национальных республиках, входивших ранее в состав СССР. Особенно много (более 10) было их на Украине, начиная от "Плуга" () и кончая "Политфронтом" (). (Перечень групп см.: Литературный энциклопедический словарь.- М., 1987.- С. 455). Примечательны грузинские группы символистов ("Голубые роги") и футуристов ("Левизна"). Во всех республиках и крупных городах России функционировали Ассоциации пролетарских писателей.
7. На рубеже 20-х - 30-х годов в истории русской литературы ХХ века намечается другая эпоха, другой отсчет литературного времени и эстетических ценностей. Апрель 1932 года, когда вышло Постановление ЦК ВКП(б), ликвидировавшее литературные группы и принявшее решение о создании единого Союза советских писателей, стал окончательным рубежом между относительно свободной и уже несвободной литературой. Многие писатели, в том числе и Горький, не без оснований считали, что дух групповщины, насаждаемой РАПП, мешает нормальному развитию литературы. Не осознавая истинных причин, падение всесильной группы, принимая его за торжество справедливости, они считали создание единого творческого союза благом. Однако в отличие от многих, особенно писателей-попутчиков, натерпевшихся от рапповской дубинки, Горький самого Постановления не одобрял и никогда на него не ссылался, видя в его редакции грубое административное вмешательство в дела литературы: "Ликвидировать - жестокое слово",- считал он. Поэтому он выражал сочувствие оказавшемуся вдруг в опале Авербаху, и неприязнь по отношению к Фадееву, активно претворяющему решения партии в жизнь.
Истинные причины ликвидации литературных групп, в том числе и всесильной РАПП, понимали и некоторые другие писатели. Известна, например, относящаяся к 1932г. эпиграмма Н. Эрдмана:
По манию восточного сатрапа
Не стало РАППа.
Не радуйся, презренный РАПП,
Ведь жив сатрап.
В подготовке и проведении Первого учредительного съезда советских писателей в августе 1934 г. Горький принял самое деятельное участие. В докладе, открывшем съезд, он говорил о победе социалистической идеологии - основного слагаемого социалистического реализма. В определенной степени это соответствовало истине. Давление господствующей идеологии, мощная пропаганда, твердившая об успехах новостроек (что это достигалось разорением и деклассированием деревни понимали далеко не все), восторг зарубежных гостей делали свое дело. Еще в 1930г. появилась "Соть" попутчика Леонова и "Поднятая целина" М. Шолохова (несмотря на свои давние связи с пролетарскими писателями, вторую половину 20-х г. г. Шолохов провел под знаком "Тихого Дона"). Писатель, знавший всю подноготную коллективизации, тем не менее верил в возможность ее проведения "по-людски". Большинство же не знало, а то и не хотело знать реального положения вещей и устремлялась к "третьей действительности", выдавая желаемое за сущее.
Но победа социалистического реализма, о которой так много говорилось на Первом съезде советских писателей и после него, оказалась пирровой. Наличие в литературе первой трети ХХ в. альтернативных течений и тенденций, литературных групп создавало условие для полнокровного развития социалистической литературы в необходимых связях и взаимодействиях. Ее произведения еще не сводились к агитационной сверхзадаче, еще несли в себе художественную достоверность образов, возможность разных интерпретаций, что обеспечило им прочное место в истории русской литературы и даже в современном читательском восприятии.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС:
1. Определите основные задачи изучения советской литературной классики в современной социокультурной ситуации.
2. Назовите литературные группы 1920г. г., которые обосновывали принципы творческой деятельности фактически совпадающие с принципами социалистического реализма.
3. Назовите литературные группы 1920г. г., отстаивающие принципы литературного авангарда.
4. Дайте развернутую характеристику одной из литературных групп.
5. Разграничьте повод и причины ликвидации литературных групп в 1932г.
Начало Пролеткульту было положено Первой Петроградской конференцией пролетарских культурно-просветительных организаций, созданной в октябре 1917 года по инициативе фабрично-заводских комитетов и при деятельном участии А. В. Луначарского, бывшего тогда председателем культурно-просветительной комиссии ЦК РСДРП (б). Конференция проходила в течение трех дней за неделю до Октябрьской революции. По воспоминаниям Луначарского, три четверти из собравшихся были рабочие - «сплошь большевики или вплотную примыкавшие к ним беспартийные». {14} Была принята резолюция, составленная Луначарским, в которой, в частности, говорилось: «Конференция полагает, что как в науке, так и в искусстве пролетариат проявит самостоятельное творчество, но для этого он должен овладеть всем культурным достоянием прошлого и настоящего. Пролетариат охотно принимает в культурно-просветительском деле сочувствие и помощь социалистической и даже беспартийной интеллигенции».
Несмотря на то, что возникшие на конференции разногласия не приводили пока, по словам Луначарского, «ни к малейшему обострению», да и само название - Пролеткульт - еще не обозначилось, разногласия эти все-таки имели место и касались они взаимоотношений нарождающейся пролетарской культуры с культурой существующей, а также с культурой прошлого. На конференции раздавались голоса тех, кто окрещивал «всю старую культуру буржуазной» и заявлял, что в ней «нет ничего достойного жить», кроме «естествознания и техники, да и то с оговорками». Говорили и о том, что «пролетариат начнет работу разрушения этой культуры и создания новой сейчас же после всеми ожидаемой революции».
И хотя подобные взгляды не нашли отражения в принятой собравшимися резолюции, они не замедлили сказаться в ближайшем будущем. Показательно также замеченное Луначарским «некоторое пристрастие и недоброжелательство» участников конференции к интеллигенции, бывшее, по его мнению, «справедливым разве только по отношению к трем-четырем попавшим на конференцию меньшевикам, но распространившееся на всех интеллигентов» (за исключением самого Луначарского, хотя он и был «лидером более умеренной группы»). Характерно и то, что «вся конференция, как один человек», включая и Луначарского, была убеждена в необходимости «выработать свою собственную культуру» и никоим образом не становиться «в положение простого ученика» культуры существующей. Монолитное единство участников в этом главном вопросе привело к такой формулировке, зафиксированной в резолюции: пролетариат «считает необходимым критически отнестись ко всем плодам старой культуры, которую он воспринимает не как ученик, а как строитель, призванный воздвигнуть новое здание из камней старого».
Этот тезис, скрывающий возможность совершенно различных подходов к проблеме пролетарской культуры - от усвоения ею «плодов старой культуры» и творческой их переработки до утверждения ее «самостийности» и независимости от культурной традиции, - предопределил после победы Октября противоречия эстетической {15} платформы Пролеткульта и нечеткость позиции А. В. Луначарского как наркома просвещения в отношении к нему.
По словам Луначарского, в работе, развернутой им по организации Пролеткульта, принимали активное участие «из интеллигентов» - П. И. Лебедев-Полянский, П. М. Керженцев, отчасти О. М. Брик; «полупролетарий, полуактер» В. В. Игнатов; «из рабочих» - Федор Калинин, Павел Бессалько, А. И. Маширов-Самобытник и др.
Необходимо отметить, что двое из упомянутых А. В. Луначарским лиц - П. И. Лебедев-Полянский и Ф. И. Калинин, а также он сам, были связаны до Октября с фракционной группировкой «Вперед», возглавлявшейся А. А. Богдановым. В 1909 году «впередовцы» организовали в Италии, на острове Капри, школу, куда приехали из России учиться 13 человек, в том числе и рабочий Ф. И. Калинин. Лекторами в школе выступали А. А. Богданов, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, А. М. Горький и др. На расширенном совещании редакции большевистской газеты «Пролетарий» (июнь 1909 г., Париж) устройство каприйской школы было осуждено, а в резолюции совещания, составленной В. И. Лениным, сказано: «под видом этой школы создается новый центр откалывающейся от большевиков фракции».
Обладая ярко выраженным комплексом лидера, Богданов реализовывал его в сугубо теоретической сфере; он хотел быть не вождем, но идеологом. Богданов считал себя марксистом, но отрицал ленинизм и, прежде всего, ленинскую концепцию пролетарской революции. После победы Октября такая позиция могла бы стать для Богданова крайне опасной, но В. И. Ленин не стал сводить с ним личных счетов, памятуя о его бывших партийных заслугах и по-прежнему ценя в нем человека строгих и систематических знаний (его книгу «Краткий курс экономической науки» (1897) он считал лучшей в экономической литературе своего времени).
Символическим ключом к пониманию личности Богданова являются его партийные псевдонимы - Рядовой и Рахметов, казалось бы, взаимоисключающие. Постоянно выступая против всякого рода авторитарных систем и просто авторитетов, против любой неординарности, индивидуализма и даже индивидуальности («человек личность, но дело его безлично», - любил повторять он), Богданов в то же время не напрасно называл себя Рахметовым. Основав в 1926 году Институт переливания крови (Богданов был дипломированный врач), он в 1928 году испытал на себе новую {16} вакцину, дотоле пробуемую только на животных, и трагически погиб.
Ведя до Октября жизнь профессионального революционера, будучи в гуще партийной работы и борьбы, находясь в тюрьмах и ссылках, Богданов странным образом оставался ученым кабинетного склада. Раз и навсегда выработав мировоззрение, он педантично раскладывал впечатления от быстротекущей жизни по симметрично выстроенным полочкам своего прекрасно организованного мозга. Раз и навсегда выстроив блоки умозрительных концепций, он уже больше не задумывался об их связи с бурно меняющейся эпохой (полная противоположность всегда открытому к жизни Луначарскому, партийные псевдонимы которого - Воинов, Легкомысленный - характеризуют натуру будущего наркома тоже очень ярко). Однажды Богданов записал в своем дневнике: «Да, я в этой теории [пролетарской культуры. - Г. Т .] абстрагировался от нынешней отсталости пролетариата». Вот эта способность «абстрагироваться» от реалий действительности была, быть может, главной чертой духовного склада Богданова.
Теория «пролетарской культуры» была разработана Богдановым в 1900 – 1910‑е годы, задолго до возникновения Пролеткульта, о практической реализации которого он и не помышлял. Однако все, что говорили в первые годы Октября Лебедев-Полянский, Плетнев, Ф. Калинин, Игнатов и многие другие, было лишь перепевом старых богдановских идей. Сам Богданов (Рядовой!) скромно стоял в тени. Но публикуя, наравне с прочими, статейку-другую в журнале «Пролетарская культура», он, разумеется, не мог не видеть, какой пожар разжег. Не претендуя на приоритет, не обижаясь, когда его пересказывали почти дословно, не жалуясь, когда его грубо вульгаризировали, Богданов не мог не испытывать удовлетворения истинного лидера, влияние которого на сознание других органично укрепилось в их «коллективной» психике.
Фундаментом теории «пролетарской культуры» был эмпириомонизм, философская система Богданова, в которой позитивистское понятие «опыта» не просто фетишизировалось, но трактовалось по-своему - неотрывно от формы организации трудовой активности человека. Богданов предлагал любую человеческую деятельность - общественную, техническую, художественную - «рассматривать как некоторый материал организационного опыта и исследовать с организационной точки зрения». Следствием такого подхода оказывалось понимание культуры как модели производственно-трудовой практики; культура идентифицировалась со способом организации производительных сил, впрямую вытекала из технологии производства. «Всякая идеология {17} [равная в понимании Богданова культуре. - Г. Т .], вырастает в конечном счете на основе технической жизни; базис идеологического развития составляет техническое».
В соответствии с этой установкой, Богданов разделил историю человеческого развития на четыре периода, отличавшихся, по его мнению, «особым типом господствующих идеологий - особым типом культуры: 1) эпоха первобытных культур; 2) эпоха авторитарной культуры; 3) эпоха индивидуалистической культуры; 4) эпоха культуры трудового коллективизма».
Богданов полагал, что, впрямую выводя культуру из сферы материального производства, он неуклонно следует за Марксом. Маркс, однако, указывая на материальное производство как первопричину всех общественных надстроек, никогда не забывал об «относительной самостоятельности» развития идеологии, культуры и, особенно, - искусства. Нередко используя марксистскую терминологию, Богданов начинял ее содержанием, далеким от материалистической диалектики. Так, много и горячо говоря о губительных последствиях «разделения труда», Богданов сводил их к фетишизму специализации, породившей неполноту жизни, цеховую замкнутость, «профессиональную тупость».
В истории человечества Богданов усматривал «два разрыва трудовой природы человека» - авторитарность и специализацию. Авторитарность была, по его мнению, первым дроблением целостной природы человека. Когда «руки» отделились от «головы», образовалась начальная «авторитарная форма жизни», возникли повелевающие и повинующиеся. Дальнейшее развитие цивилизации, изменяя формы авторитарности, сохраняло ее сущность: «опыт одного человека признается принципиально неравным опыту другого, зависимость человека от человека становится односторонней, воля активная отделяется от воли пассивной». В искусстве, считал Богданов, авторитарность закрепила в качестве героев - богов, царей и вождей, - все остальные выступали послушными исполнителями тоталитарной воли.
Разделение труда стало началом второй фазы «дробления человека» - специализации, которую буржуазный мир фетишизировал. Возникло «филистерство специальности» (Э. Мах). Вот впечатляюще изложенные последствия специализации: «Специальным опытом определяется специальное мировоззрение. В сознании одного специалиста жизнь и мир выступают как мастерская, где каждая вещь приготавливается на свою особую колодку, в сознании другого - как лавка, где за энергию и ловкость покупается счастье, в сознании третьего - как книга, написанная на разных языках и разными шрифтами, в сознании четвертого как храм, {18} где все достигается путем заклинаний, в сознании пятого - как сложная разветвляющая<ся> схоластическая задача и т. д., и т. д.». Возможность взаимопонимания людей суживается до предела, что грозит, как пророчил Богданов, новым вавилонским столпотворением.
Специализация и в самом деле ограничила и продолжает ограничивать проникновение общечеловеческого опыта в сознание индивидуума, но из нее не вытекает «отвлеченный фетишизм» науки или профессионального искусства, которые Богданов предлагал связать «методами пролетарского творчества».
Сегодня «организационная наука» Богданова попадает в иной социально-исторический контекст и может представить специальный научный интерес. Трехтомная «Тектология» - едва ли не первая попытка научно обосновать «организационную точку зрения», увлекающую современных ученых. Может быть и не напрасно Богданов считал свою «Тектологию» (от греч. - учение о строительстве) наукой будущего, вооружающей, по его мнению, человека методом для решения «любого вопроса, любой жизненной задачи, хотя они и вне его “специальности”». Предваряя современный кибернетический подход, Богданов утверждал, что любая объясненная функция живого организма может быть уподоблена механической. «“Механизм” - понятая организация . <…> “Механическая точка зрения” и есть единая организационная точка зрения в ее развитии, в ее победах над разрозненностью науки».
И все же диалектика связей внутри богдановской триады (эмпириомонизм - пролетарская культура - тектология) не выходит за пределы формально-логического построения. Концепция Богданова, если угодно, принципиально антиисторична. Не говоря уже о том, что названные Богдановым «эпохи культур» весьма условно соответствуют реальному развитию человеческой цивилизации (к тому же только в европейском ее варианте), они, согласно автору, сменяют друг друга механически , путем вытеснения, возникают взамен своих предшественниц - меняется «способ производства» - тотчас меняется и культура.
Пролетарскую культуру Богданов выводил из «методов пролетарского труда, т. е. того типа работы, который характерен для рабочих новейшей крупной индустрии». По его мнению, специализация, отчуждавшая при других способах производства человека от самого себя и себе подобных, здесь перекладывалась с работников на машины; содержание труда на разных машинах обретало «организационное» сходство и образовывало «товарищескую форму сотрудничества». Далее следовал тезис, согласно которому - «методы пролетарского творчества развиваются в направлении {19} монистичности и осознанного коллективизма »[l]. Это означало, что в отличие от «индивидуалистической» культуры, специализировавшей человека на определенном «труде», культура «пролетарская» будто бы устанавливает тождество любой человеческой деятельности - технической, социально-экономической, политической, бытовой, научной, художественной - ибо все эти «разновидности труда » слагаются из совершенно одинаковых «организующих или дезорганизующих человеческих усилий». Богдановский «монизм» предполагал, что отныне не будет таких «методов практики и науки», которые нельзя было бы прямо применять в искусстве, - и наоборот. А «осознанный коллективизм» предлагалось направить на то, чтобы повсюду - в человеческой жизни и природе, политике и экономике, науке и искусстве, содержании и форме художественных произведений - обнаруживать «зародыши и прообразы организованности коллектива». Короче, как острил позднее Маяковский, «пролеткультцы не говорят / ни про “я”, / ни про личность / “Я” / для пролеткультца / все равно что неприличность».
Из концепции Богданова вытекал «разрыв» пролетарской культуры с культурой прошлого; отрицание идеологической функции искусства; отрицание профессионализма в науке, искусстве и других сферах человеческой деятельности; нигилистическое отношение к интеллигенции как носительнице «индивидуалистического», а не «коллективного» опыта и многое другое.
После революции Пролеткульт быстро оформился в организацию, которой советская власть отводила поначалу видное место в культурном строительстве. Пролеткульту выделялись весьма значительные денежные средства, помещения, оказывалась всяческая помощь и поддержка.
Пролеткульт был поддержан прежде всего потому, что он формировался как массовая организация. По сведениям журнала «Пролетарская культура», к началу 1920 года 300 местных пролеткультов объединяли вокруг себя более полумиллиона человек.
Ленин горячо приветствовал участников Первой Всероссийской конференции Пролеткульта (сентябрь 1918 г.), а в ноябре того же года выступил с речью на вечере Московского Пролеткульта, где сказал, что «могучее организующее орудие - искусство, монополизированное раньше буржуазией, - теперь в руках пролетариата», который «может творить свободно и радостно».
Однако уже в 1919 году тон и смысл высказываний В. И. Ленина о Пролеткульте резко меняется. Он начинает говорить «о личных выдумках в области философии или в области культуры», метя, прежде всего, в А. А. Богданова. Хотя последний числился {20} теперь всего лишь членом ЦК Всероссийского совета Пролеткульта, тогда как его бывшие ученики П. И. Лебедев-Полянский и Ф. И. Калинин занимали руководящие посты в организации, подобная расстановка сил должна была Богданову даже импонировать: не он сплачивал ряды адептов «пролетарской культуры» - они росли и множились сами, повинуясь объективному ходу вещей.
И действительно, концепция Богданова находила себе поддержку не только в узком кругу единомышленников, но и среди широких масс. Это важнейшее обстоятельство, на наш взгляд, до сих пор недооценивается. В современных исследованиях о Пролеткульте совершенно справедливо отмечается несоответствие идеологической платформы организации истинным интересам трудящихся. Но эти свои подлинные интересы в области культуры и искусства им предстояло еще осознать. Совершенно прав был Б. В. Алперс, высказавший в своей статье «Билль-Белоцерковский и театр 20‑х годов» (1970) такое суждение: «Пролеткультовская программа не была только головным измышлением группы теоретиков. Она отражала воззрения и умонастроения многих и многих людей, делавших революцию с оружием в руках, которые подобно Биллю, вместе со святой ненавистью к старому миру несли в себе и несправедливую вражду ко всему, что было создано им когда-то вплоть до самых великолепных его духовных творений. Об этом нужно хорошо помнить, когда мы обращаемся к изучению театра ранней, уже далекой теперь эпохи в истории революции». Как видим, крупному советскому драматургу В. Н. Билль-Белоцерковскому даже в 1920‑е годы очень нелегко было изживать «несправедливую вражду» к духовной культуре прошлого. И, конечно, не ему одному.
В некрологе, посвященном памяти безвременно погибшего Павла Бессалько, А. В. Луначарский, говоря о чистоте его морального облика и несомненной художественной одаренности, не мог все-таки не отметить, что пролетарскому писателю «были присущи весьма махаевские взгляды», т. е. вполне очевидное «озлобление против интеллигенции». Объективно, тем самым, люди, подобные П. Бессалько, несмотря на безупречность своего пролетарского происхождения, становились носителями дезорганизующей стихии.
Следует, конечно, оговорить, что и Билль, и Бессалько вульгаризировали богдановские идеи. Богданов высоко чтил «духовные творения» старого мира и не ополчался против интеллигенции как таковой. «Коллективистический» этап культуры, по Богданову, вовсе не означал, что отныне стихи, например, следует писать коллективом (а такая установка была во многих литературных студиях {21} Пролеткульта). Богданов полагал, что и в до-«коллективистические» этапы культуры имел место коллективный, т. е. социально-организованный опыт. «Под автором-личностью, - писал он, - скрывается автор-коллектив, и поэзия - часть его самосознания». Видя в коллективном опыте пролетариата основу его культуры, Богданов постоянно оговаривал, что не имеет в виду «большинство голосов». В индивидуальном открытии Коперника, пояснял он, отразился коллективный опыт людей, в великих произведениях искусства сквозит общечеловеческий опыт культурного развития. Но если спросить «большинство», то оно и сейчас, «пожалуй, было бы не за Коперника». «Дело в том, что большинство и организованность не только не одно и то же, но до сих пор всего чаще оказывалось даже на противоположных сторонах». Следовательно, и интеллигенту не воспрещалось перестроиться на «коллективный» лад (ведь смог же это сделать сам Богданов!), осознать себя носителем социально-организованного опыта, которым счастливый пролетарий владеет органично. Но «большинству», откомментированному Богдановым с вполне индивидуалистическим скепсисом, не хотелось вникать во все тонкости концепции высокочтимого мэтра. Потому что и с названными оговорками концепция Богданова представляла собой образец вульгарно-социологической доктрины, удовлетворяющей далеко не лучшим чувствам «большинства».
Пролеткульт постепенно уклонялся от насущных для времени просветительских задач. Он не считал, например, борьбу с неграмотностью «нашей общей задачей». Более того, он вообще не считал ее своей задачей. Просвещение широких народных масс, в том числе и пролетариата, он целиком возлагал на Наркомпрос, который, согласно декларации, подписанной председателем Всероссийского совета Пролеткульта П. И. Лебедевым-Полянским, был обязан заниматься просвещением «в государственном масштабе без различия групп революционного народа». Сам же Пролеткульт считал себя призванным «пробудить творческую самодеятельность в широких массах, собрать все элементы рабочей мысли и психики». Эту собственную «миссию» Пролеткульт, по убеждению своих руководителей, мог выполнить только «вне всякого декретирования», в условиях «полной независимости от государства», «стесненного» заботами о «союзниках пролетариата по диктатуре» (крестьянство, интеллигенция), якобы не способных в силу своей «мелкобуржуазной природы» усвоить «новый дух культуры рабочего класса». «В вопросах культуры - мы немедленные социалисты, - заявлялось в редакционной статье одного из первых номеров “Пролетарской культуры”. - Мы утверждаем, что пролетариат {22} должен теперь же, немедленно, создавать для себя социалистические формы мысли, чувства, быта, независимо от соотношений и комбинаций политических сил».
Главным пунктом идейно-эстетических расхождений В. И. Ленина с Пролеткультом стала проблема культурного наследия. Она была совсем не такой простой, какой еще и сегодня предстает в иных высказываниях о Пролеткульте. Дело в том, что ни у одного из теоретиков Пролеткульта не было «огульного отрицания старой культуры». Ошибка Пролеткульта была глубже и серьезней. Провозгласив пролетариат «законным наследником всех ее [культуры прошлого. - Г. Т .] ценных завоеваний, духовных, как и материальных», заявив, что «от этого наследства» пролетариат «не может и не должен отказываться» пролеткультовские идеологи, казалось бы, ни в чем не отступали от известных ленинских определений. Но они ставили точку там, где у Ленина следовало продолжение, составляющее суть марксистского подхода к проблеме культурного наследия. Главной в ленинском учении является идея преемственности , развития, а не простое признание пролетариата «законным наследником» культуры прошлого.
Не отрицая важности наследия в культурном просвещении, Пролеткульт «именем пролетариата» (слова А. В. Луначарского) объявлял его культуру «резко обособленной». Просвещать, не приобщая - так мог бы выглядеть лозунг Пролеткульта в отношении к культурному наследию. Этот программный «разрыв» пролетарской культуры со всем, что ей предшествовало и находилось рядом во времени, определил и сепаратистскую политику организации и схоластику ее эстетической программы. Если добавить к этому, что задачу культурного просвещения Пролеткульт, как уже было сказано, перелагал на Наркомпрос, то выходило, что себе он оставлял только заботу о взращивании «элементов пролетарской культуры» и бдительную охрану ее границ, чтобы она, не дай бог, «не расплылась в окружающей среде»; чтобы пролетарское искусство не выходило из своих рамок - «не смешивалось с искусством старого мира».
Высоко оценивая тягу широких масс к искусству и, в особенности, к театру, приветствуя размах самодеятельного движения, Луначарский не раз отмечал, что количественные показатели здесь далеко не совпадают с качественными. В 1918 году в петрозаводском «Бюллетене подотдела искусств» было объявлено: «Всех лиц и организаций, желающих работать в подотделе искусств в областях музыкальной, театральной, кинематографической, литературно-издательской, просят заявить об этом. Способностями и дарованиями {23} не стесняться». Это объявление - в высшей степени характерный для времени документ.
С одной стороны, эпоха, выдвинувшая в качестве своей эстетической доминанты творческую самодеятельность масс, впервые так определенно поставила искусство на службу революции и практическим задачам дня. Даже «лица», обладавшие «способностями и дарованиями», шли в театральные студии и писали пьесы не за тем, чтобы обнаружить и взлелеять свои таланты. Они хотели и «в искусстве» бороться с внешними и внутренними врагами, агитировать за советскую власть. Но, с другой стороны, из этой, рожденной Октябрем, установки, отнюдь не вытекало, что отныне искусством сможет заниматься каждый, было бы желание. Между тем идеологи Пролеткульта стремились внушить массам как раз такую мысль. В статье 1919 года «Понимание пролетарской культуры» П. Бессалько писал: «На пиру искусства все равны. Нет разницы между “избранными” и не “избранными” ни в качестве, ни в количестве их ума.
Талант - это воля, направленная на определенную цель . Чем упорнее воля, тем крупнее талант. Феноменальное упорство в труде, в достижении своих целей создает гениев». Сам Бессалько, как уже говорилось, обладал несомненными литературными способностями, но проповедовал не просто творческую «уравниловку», а казарменный подход к проблеме художественного творчества. Фигура художника, обладающего «талантом» в трактовке Бессалько, приобретала почти зловещие очертания.
Отрицание профессионального искусства, требующего природной одаренности, и пропаганда взамен его «творчества», основанного на фанатическом «упорстве», дезориентировали пролеткультовские массы, тормозили развитие тех, кто действительно обладал художественным талантом. Вот красноречивое свидетельство времени. Корреспондент пролеткультовского журнала «Горн» интервьюирует рабочего поэта: «Поддразниваю:
- “Пролетарская культура” [журнал. - Г. Т .] держит вас под настоящей опекой. Она постоянно указывает вам истинный путь. - Не ходи, милый, направо, там споткнешься, да и тут есть, пожалуй, от лукавого. Не раздражает ли вас такая нянька?
Поэт улыбается:
Нет, так и нужно. Мы, художники, народ увлекающийся, нам легко сбиться, заглядеться, и “Пролетарская культура” очень нужна нам своей внимательной трезвостью».
Вот эта боязнь хотя бы на шаг отступить от предписанных установок стала для многих пролеткультовцев камнем преткновения на пути к подлинному творчеству и подлинному искусству.
{24} Выход из сложившейся ситуации виделся В. И. Ленину только один - беспощадная критика партией идеологической платформы Пролеткульта, беспрекословное подчинение его Наркомпросу.
5 – 12 октября 1920 года в Москве проходил I Всероссийский съезд Пролеткульта. А 2 октября открылся другой съезд - III съезд Комсомола. Как известно, В. И. Ленин выступил на нем с речью, пафос которой исчерпывался одним словом - «учиться». Призывая собравшихся овладеть «всем современным знанием», Ленин подверг резкой критике те «ультрареволюционные» «разговоры о пролетарской культуре», те прожекты «специалистов по пролетарской культуре», которые изобретались в пролеткультовских «лабораториях» и сбивали молодежь с толку. Однако доклад П. И. Лебедева-Полянского на съезде Пролеткульта и принятая по нему резолюция свидетельствовали о том, что Пролеткульт был намерен оставить за собой «культурно-творческую работу», а «культурно-просветительную» использовать, в лучшем случае, как «подсобную».
Тогда Ленин предложил выступить на съезде наркому просвещения А. В. Луначарскому с прямым указанием на необходимость подчинения Пролеткульта Наркомпросу. Луначарский ленинских указаний не выполнил, даже с учетом «Необходимой поправки», где он утверждал, что в изложении «Известий» текст его выступления на съезде был искажен «довольно значительно». Позднее Луначарский вспоминал, что «средактировал» свою речь «примирительно», ибо ему казалось неправильным «идти в какую-то атаку и огорчать собравшихся рабочих». Это была явная отговорка Тактическая уклончивость речи наркома на съезде Пролеткульта объяснялась стойким намерением Луначарского во что бы то ни стало сохранить независимость организации (не политическую, конечно), но культурную - независимость статуса культурного института со своей эстетической программой, тем более, что Луначарский знал о надвигающейся реформе Наркомпроса и о ближайшем подчинении всех учреждений культуры и искусства Главполитпросвету.
Такая позиция Луначарского, на первый взгляд, выглядит непонятной. Ведь из триады Богданова, строго говоря, вытекало отрицание эстетики. Практически у Богданова отсутствует даже сама дефиниция - эстетика, нет и слагаемых ее номенклатуры. Крайне редко встречающиеся в его сочинениях рассуждения «об искусстве» выдают приличествующую поколению Богданова приверженность к «классике» и открытую неприязнь к новейшим «измам»; анализ поэзии с точки зрения «социально-организованного опыта» нередко просто курьезен, а сугубо технократическое мышление при {25} вполне старомодных вкусах отлучает от «новаторства “декадентов”, перешедших со вчерашнего дня на сторону революции». В борьбе старого и нового в искусстве XX века Богданов явно стоит на стороне «старого», хотя вполне в духе времени толкует новаторство «как расширение средств художественной техники». Имелась в виду, однако, не внутренняя техника самого искусства, а обогащение с последующей заменой традиционного искусства новейшими техническими изобретениями - «фотографией, стереографией, кинофотографией, спектральными цветами, фонографией и пр.». Речь у Богданова, таким образом, нигде не шла о собственно эстетике, лишь иногда - об эстетике технической. Не случайно герой одного из его научно-фантастических романов («Красная звезда»), посетив марсианский музей искусств, приходит в восторг от того, что в этом «научно-эстетическом учреждении» уже не выставляют «скульптуры и картинки» - социалистические марсиане давно перешли на удобные «стереограммы».
Возникает законный вопрос: как же мог Луначарский, человек с уникально развитым эстетическим чувством, высоко ставить «попытки организации общенаучного пролетарского базиса, сделанные товарищем Богдановым»? Тем более, что процитированные слова, несмотря на сопровождающую их оговорку о несовпадении «попыток» идеолога Пролеткульта с марксистской ортодоксией, относятся к 1922 году, а, следовательно, смело полемичны содержанию Письма ЦК «О Пролеткульте» (декабрь 1920 г.). Все, однако, становится на свои места, если не затушевывать важнейшей реалии творческой биографии наркома: область эстетики не только во времена каприйской школы, но задолго до ее создания - еще в 1902 – 1903 гг., т. е. в период формирования русского позитивизма, целиком находилась в ведении самого Луначарского. Это была его «вотчина», вот почему Богданов мог и не утруждать себя «эстетикой», которая с изобретением в 1912 году «Тектологии» и просто «отпала», как и все области специальных знаний.
Но в 1904 году, когда вышел первый сборник русских позитивистов, «специализация» еще сохранялась. В «Очерках реалистического мировоззрения» рядом со статьями А. Богданова «Обмен и техника», С. Суворова «Основы философии жизни», В. Базарова «Авторитарная метафизика и автономная личность» была помещена программная работа Луначарского «Основы позитивной эстетики», определяющая сферу его действий в общем комплексе позитивистской программы. От идей, изложенных в «Основах позитивной эстетики», Луначарский не отказался и после Октября. В 1923 году он опубликовал работу отдельной брошюрой с характерным примечанием - «статья эта, напечатанная впервые в 1903 году, {26} пока переиздается без изменений» и преподнес В. И. Ленину с дарственной надписью - «Дорогому Владимиру Ильичу работа, которую он, кажется, когда-то одобрял, с глубокой любовью А. Луначарский. 10.III.1923.».
Нелегко представить себе, что Ленину даже «когда-то» нравилась статья Луначарского. Тут, видимо, было другое. «Летом и осенью 1904 года, - писал В. И. Ленин А. М. Горькому в 1908 году, - мы окончательно сошлись с Богдановым, как беки , и заключили тот молчаливый и молчаливо устраняющий философию, как нейтральную область, блок, который просуществовал все время революции и дал нам возможность совместно провести в революцию ту тактику революционной социал-демократии (= большевизма), которая, по моему глубочайшему убеждению, была единственно правильной». Именно потому, что «философией заниматься в горячке революции приходилось мало», Ленин даже собирался написать в богдановские «Очерки» статью по аграрному вопросу. Но к 1908 году «драка между беками по вопросу о философии» стала «совершенно неизбежной», теперь Ленин готов был дать себя «скорее четвертовать, чем согласиться участвовать в органе или в коллегии», проповедующих идеи, подобные тем, что были высказаны на страницах нового сборника русских махистов, хотя вновь повторил, что «раскалываться из-за этого было бы, по-моему, глупо». Читая одну за другой статьи «Очерков философии марксизма» (в том числе и работу Луначарского «Атеисты»), Ленин, по его собственным словам, «прямо бесновался от негодования». «Нет, это не марксизм! - писал он Горькому. - Нельзя под видом марксизма “учить рабочих религиозному атеизму” и “обожанию” высших человеческих потенций (Луначарский)».
Но этими же идеями пронизаны и «Основы позитивной эстетики». В той или иной мере они присущи всем специальным философско-эстетическим сочинениям Луначарского вплоть до рубежа 1920 – 30‑х годов. Комплекс идей, впервые выраженный в «Основах позитивной эстетики», - реалия мировоззрения Луначарского, реалия общекультурной ситуации времени, имевшая далеко идущие последствия. Конечно, М. А. Лифшиц был в принципе прав, говоря, что мировоззрение Луначарского «целиком выражается в притче его жизни», а его эстетика, в которой он видел «средоточие своего миросозерцания», есть «глубоко прочувствованный революционный идеал». Но утверждать, что «мировоззрения Луначарского» вообще «не существует в виде абстрактной системы взглядов» (слово «абстрактной» тут употреблено, на наш взгляд, всуе - для эмоциональной поддержки предыдущих {27} мыслей), что его «эстетика не похожа на университетскую профессорскую науку», - значит отрицать очевидное. «Я и сейчас еще, - писал Луначарский в 1925 году, - в эстетике остаюсь в большей мере учеником Авенариуса, чем какого-нибудь другого мыслителя».
Поднимая вопрос об отношении Пролеткульта к «буржуазной культуре», мы объективно встаем и перед вопросом об определении критериев классовости культуры как таковой. Этот вопрос встал с особой остротой сразу после Октябрьской революции 1917 года, причем не только перед большевиками, оказавшимися во власти. В кругах философской и литературной интеллигенции также обсуждался, и не раз, вопрос о классовой природе не только грядущей культуры (может быть, новой и чужой), но и той - прежней, которая была захвачена историческим разломом еще накануне Октября 1917-го. Причем обсуждение сущности каждой из этих культур (прежней и грядущей) шло в русле соотнесения таких понятий, как «буржуазная культура и пролетарская». Вопрос ставился даже шире: так все-таки, что стояло за культурой прежней эпохи - культура или цивилизация , и что грядет ей на смену?
В 1919 г. на одном из заседаний Вольного философского общества этот вопрос именно так и был задан: «Мы только знаем, что случилось «что-то» в мире, и это «что-то» вылилось в формы социальной революции и потрясло старый фундамент, старые устои. Пошатнулось - что? - цивилизация или культура» .
И далее в своем докладе Иванов-Разумник говорил о том, что понятие классовости следует связывать не столько с «культурой», сколько с «цивилизацией». Вот как это звучало в его докладе: «Подходя теперь к вопросу о «пролетарской культуре», я хотел бы сразу сказать: я понимаю, когда говорят «буржуазная цивилизация», «пролетарская цивилизация», но я совершенно не в состоянии понять сочетания понятий, когда речь идет о «буржуазной культуре» или «пролетарской культуре» <…> понятие «цивилизация» является классовым и в то же самое время интернациональным, понятие же «культура» - внеклассовым и в то же самое время народным <…> когда мне говорят о творчестве Пушкина или Льва Толстого, то я чувствую, думаю и знаю, что творчество Пушкина и Льва Толстого идет из глубоких народных корней, что здесь идет речь о культуре не классовой, не дворянской, не буржуазной, а народной» .
И действительно, если подходить к определению культуры с классовой позиции, то в чем в этом случае состоит ее классовость? И вообще, что имеется в виду, когда говорят «классовая культура»? Культура, которая создана в условиях господства того или иного класса? Или культура, которая создана представителями господствующего класса? Или же культура, содержание которой обращено к тому или иному классу?
Вопросов немало.
Если же говорить о пролетарской культуре, то главным становится уже другой вопрос: насколько эта культура является общечеловеческой? И если является, то это значит, что пролетарская культура должна нести в себе все наследие мировой культуры, в противном случае она не может считаться таковой. Эту взаимосвязь по-своему отметил в своем докладе и А. Мейер: «Когда выступают на историческую арену те слои человечества, которые до сих пор в этом делании не участвовали, то им приходится или принять наследие высших господствующих классов, или выйти на «арену» без всякой культуры. Здесь может таиться большая опасность» .
Наряду с этим, вставал и другой вопрос: каково отношение уже самого пролетариата и выступающего от его имени Пролеткульта к культуре «прошлой» эпохи, которая нередко называлась «буржуазной» или «культурой мертвых эпох»?
Этот вопрос в 1920-е гг. оставался открытым, выявляя принципиально разные на этот счет позиции. Одна из них, имевшая место в том числе и в кругах Пролеткульта, несла в себе неприятие прошлой культуры, убеждение в ее исторической завершенности и исчерпанности.
Вот как эту позицию выразил один из идеологов Пролеткульта - П. К. Безсалько, которого называли «самым левым пролеткультовцем»: «Если кто обеспокоен тем, что пролетарские творцы не стараются заполнить пустоту, которая отделяет творчество новое от старого, мы скажем - тем лучше, не нужно преемственной связи » . И далее этот же автор продолжает: «Вы разве не чувствуете, что классическая школа доживает свои последние дни? Прощайте, Горации. Рабочие поэты, писатели образовывают свои общества… не нужно преемственной связи» .
Эту позицию разделял и В. Полянский, являвшийся одним из идеологов Пролеткульта: «Говорят, что нет буржуазной музыки. Неправда, есть. Я знаю, как мы все любим музыку Чайковского, особенно интеллигенция. Но можем ли мы ее рекомендовать пролетариату? Ни в коем случае. С нашей точки зрения в ней очень много чуждых нам элементов. Вся музыка Чайковского, отражающая определенный момент исторического развития, проникнута одной идеей: судьба господствует над человеком » .
Но если всю «буржуазную культуру» списать со счетов истории - что тогда останется? Ответ Андрея Белого на этот вопрос звучал следующим образом: «…если всю культуру, организованную буржуазией, необходимо сдать в архив, то мы должны сдать в архив и все наши собственные представления о пролетарской культуре вместе с произведениями искусства, должны ликвидировать и Бетховена, и Шекспира; и - придти к парадоксальному утверждению: дважды два четыре есть аксиома математики; математика является порождением науки буржуазной; в будущей культуре дважды два будет не четыре, а может быть пять. Вот, к какому абсурду мы приходим» .
И далее, продолжает он: «Характеризуемое течение указывает: задача пролетариата не в том, чтобы быть культурою милитантной, ликвидирующей нашу культуру; пролетариат должен остановиться перед этой культурой и высвободить ее из буржуазных оков» .
Но наиболее последовательная и развернутая критика пролеткультовской критики буржуазной культуры велась Лениным и Луначарским. «Нет, в тысячу первый раз повторяю, что пролетариат должен быть во всеоружии всечеловеческой образованности, он класс исторический, он должен идти вперед в связи со всем прошлым. …Отбросить науки и искусство прошлого под предлогом их буржуазности так же нелепо, как и отбросить под тем же предлогом машины на заводах или железные дороги » , - писал А. В. Луначарский в 1919 г.
Надо сказать, что в кругах Пролеткульта была и другая позиция. Так, например, призыв одного из ораторов на Первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций московской конференции (1919 г.) отбросить «целиком буржуазную культуру, как старый хлам » решением представителей низовых организаций Пролеткульта был отвергнут. Но чаще всего в среде Пролеткульта отношение к прошлому наследию выражалось в форме жесткой альтернативы: либо пролетариат вынужден «довольствоваться искусством прошлых мертвых эпох» , либо он сам создает свою культуру.
почему отторгалась «буржуазная культура»
Надо сказать, что за всем этим неприятием стояло не столько отторжение непосредственно самого содержания «старой » культуры, уже хотя бы потому, что революционные массы ее почти не знали, сколько целый ряд связанных с ней социально-идеологических моментов.
Первый . Это классовое неприятие той части культуры, которая революционными массами воспринималась прежде всего как идеологический атрибут в недавнем прошлом враждебно подавлявшей их системы - системы, обрекающей их на пожизненную эксплуатацию, социальную задавленность и участь быть «пушечным мясом» в бессмысленных и беспощадных войнах. Поэтому объективное недоверие к системе в целом, ее классовое неприятие проявлялось и в их отношении к культуре, и в первую очередь - к той, которая выступала знаком этой системы. Умение же увидеть различие их значений, противоречивость положения культуры в рамках этой системы - такой критический взгляд, исходящий не только из идеологии, но и из ее прочной связи с культурой, далеко не всегда был тогда доступен революционному субъекту. Но одно дело - непонимание этих противоречий, и совсем другое - сознательное выстраивание политики на основе их неразрешенности, что нередко допускалось идеологами Пролеткульта.
Второй . За неприятием «прошлой культуры» проговаривалось угрюмое ощущение того противоречивого положения, в котором оказался на тот период революционный класс и которое он разрешить собственными силами сразу не мог.Это противоречие являлось достаточно серьезным, чтобы им пренебрегать: ценой собственной жизни и трагических потерь революционными массами было завоевано право на культуру, но она для него так и оставалась непостижимой. Это противоречие силой самой революционной ситуации требовало своего безотлагательного разрешения. Но насколько оно было возможным в действительности?
Господствующее сегодня отношение к этой проблеме, как правило, сводится к обвинению революционных масс в генетическом примитивизме или в преступлении грани дозволенного - подлинная культура предназначена лишь для избранных, но не для масс, тем более революционных. Не это ли утверждает В. Е. Борейко в своих следующих суждениях: «Кухарки повалили в литературу. Как будто она начиналась там, где заканчивалось другое ремесло» ? Но, согласно такой позиции, те же кинематографисты перестроечной поры не должны были заниматься политикой, борясь с чиновничьим засильем в искусстве - ведь вопросы управления выходят за пределы их художественного ремесла?
Бесспорно, литература является очень серьезной сферой культуры и творчества со своими законами и со своими требованиями, но попытка самостоятельно постичь ее законы, так сказать, «на ощупь» - через личную практику «пробы пера» - для революционного субъекта тогда являлась едва ли не единственной формой их познания. Другой заход - через систему специального художественного образования пролетариата - являлся задачей долгосрочной перспективы, на тот период трудно решаемой. Но кто в 1920-е гг. мог взять на себя решение этой проблемы? Система образования только налаживалась, интеллигенция же в массе своей находилась в состоянии либо противостояния новому режиму, либо растерянности. Правда, и в ее кругах находились те, кто с энтузиазмом откликнулся помочь в вопросах художественного просвещения революционных масс.
В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о его практике работы в одной из литературных студий Пролеткульта: «Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта… Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось, однако, установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет цикл эпизодических лекций, объединенных общею темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.
Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория, в смысле подготовленности, была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких» .
В любом случае «литературные» пробы революционных масс были еще и способом «выговорить» себя художественно, а значит - и творчески. Конечно, потребность творческого самовыражения здесь имела место, но не это было главным. Главным для этих людей, прошедших трагедию потерь и разрушения, порожденных I Мировой войной, начатой «цивилизованными странами» в 1914 г., а также революционный излом векового устройства, была потребность понять до конца глубинный смысл разворачивающейся истории, и понять не только через практику своего личного участия в ней, но еще через слово.
Кроме того, революционный поворот истории потребовал слова уже и от пролетариата как от субъекта фундаментальных общественных преобразований, тем более что к этому времени ему уже было что сказать. Это даже специально отметил в своем выступлении на одном из заседаний Вольного философского общества правый эсер А. А. Гизетти: «Человечеству нужно коренное обновление, нового слова ждет мир, и новое слово должен принести в мир высвободившийся творческий класс» .
Но для этого революционному индивиду надо было вырваться из водоворота глубоких личных переживаний в то слово , которое было бы по размеру не только его чувствам и мыслям, но и самому времени. Причем слово требовалось именно поэтическое. Это еще один из парадоксов, порожденных Октябрьской революцией: субъект Диктатуры пролетариата востребовал язык поэзии. Этот парадокс надо еще объяснять. Сегодня, в лавочное, прозаическое время с его главным вопросом - сколько стоит? - эти интенции 1920-х гг. рядовому обывателю просто непонятны.
Другое дело, что эти литературные практики революционного субъекта чаще всего так и не обретали достойного художественного результата. В связи с этим представляет интерес рецензия Андрея Белого на первую книгу стихов «Цветы восстания» (1917 г.), принадлежащую пролетарскому поэту и одному из организаторов Петроградского Пролеткульта и журнала «Грядущее» - Александру Поморскому. В ней Андрей Белый анализирует на частном примере основные проблемы литературного творчества революционных масс: «Пробежав эту малую книжечку, чувствуешь все же удовлетворение: сквозь техническое неумение, как трава, пробиваются пульсы самовольного капризного ритма; и сквозь рои слов, заимствованных из брошюр абстрактных, как сквозь скорлупу, проступают ищущие своего выражений образы; <….> в поэзии Александра Поморского ритм, что трава, прорастает наружу, сквозь тротуарные плиты заезженных слов, налагающих печати банальности на воплощения его мирочувствия в слове <…> Не то со словами: слова бледны, абстрактны <…>. Повторяю снова, в средствах изобразительности хромает поэзия т. Поморского; в ритме она процветает; собственно говоря; вся поэзия его - в безобразной, бессловесной поющей стихии души, обреченной до времени пользоваться затасканными словами; и все же: сквозь затасканность слов здесь и там прорезываются уже яркие образы» .
Вообще главный результат деятельности студийцев Пролеткульта заключался не столько в создании нового искусства, на что рассчитывал А. Богданов, сколько в творчестве качественно нового феномена - общественных отношений по поводу освоения культуры (в данном случае - литературы). Но все же наряду с этим иногда рождались и искры того художественного начала, которое заставляло откликаться даже опытных мастеров литературы. Вот один из примеров:
«Когда меня лишили свободы и
посадили в каменный склеп,
где бледный свет едва проникал в маленькое зарешетченное окно
и заставил отдать неволе …лучшие молодые годы
я был спокоен… я верил
Когда лучший друг оказался предателем
и за золото продал дело,
которому мы все служим -
я был спокоен… я верил
Когда наши учителя изменили делу
и оставили нас,
я был также спокоен …я верил
Когда я увидел вместо трудовых масс
жалкую трусливую толпу черни,
проклинающую нас,
я был спокоен… я верил
Когда враги убили мою любимую,
которую я любил больше жизни,
я страдал, но я верил и был спокоен.
Когда враги убили лучших друзей и надругались над их трупами
было безумно тяжело,
но я верил и ждал,
я был спокоен
Когда, наконец, мы победили,
и я окинул взглядом бесконечную вереницу дней,
где каждый имел роковой для меня конец -
И все же, несмотря на то, что результаты литературных и театральных практик чаще всего были художественно несостоятельными, значение их было, тем не менее, велико: оно заключалось в самом творческом процессе сопряжения революционного субъекта, как правило, не умеющего ни читать, ни писать, с литературным словом, с законами его постижения и овладения им. А слово было востребовано: масштаб общественных перемен, участие в боях Гражданской войны за изменение самой основы общественного устройства - все это открывало для революционного индивида новые сущности и смыслы, перспективы и предназначения, требующие своего осмысления, и прежде всего через слово.
Кроме того, творческие занятия в тех же литературных студиях Пролеткульта решали задачу трансформации социальной энергии протеста, которую вскрыл Октябрь 1917 года, в русло конструктивного созидания. Все это, наряду с потребностью осмысления происходящих социальных перемен и своей новой роли, требовало от революционного субъекта соответствующих новому историческому времени форм выражения, но, облаченное в слова либо подручные, либо заимствованные, это содержание так и оставалось художественно не высказанным. Надо сказать, что занятия в творческих студиях Пролеткульта, при всей художественной слабости их результатов, тем не менее имели целый ряд положительных последствий, и это касалось не только возможности приобщения революционного индивида к литературе, к творчеству. Эти занятия приводили его еще и к пониманию того, что литературное мастерство методом «кавалерийской атаки» не одолеть - нужно учиться.
В связи с этим интересно привести фрагмент из воспоминаний В. Ф. Ходасевича о своих занятиях со студийцами Пролеткульта: «На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории - прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безразборному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься. Занятия шли успешно…»
Понятно, что включение революционных масс в художественное творчество требовало соответствующего уровня образования и культуры, не говоря уже о наличии необходимого для этого свободного времени и материальных средств. Понятно и то, что в новые художественные практики революционный индивид включался на основе того культурного багажа, который он унаследовал еще от царского режима, который вместо возможности открывать в школах и университетах творения Пушкина и Шекспира гнал массы погибать на фронтах бессмысленной I Мировой войны. И, как оказалось, на основе этого «культурного уровня» даже в условиях завоеванной власти задача самостоятельного постижения (распредмечивания ) культурного наследия для пролетариата оказалась трудно решаемой.
Третий. Было еще одно достаточно серьезное обстоятельство, вызывающее отторжение революционных масс от культуры прошлой эпохи. Оно заключалось в том, что не все содержание культурного багажа того периода было достойно наследования, годящегося для созидания действительно нового мира: кроме высокой культуры, в нем были продукты художественно изношенные, содержательно изжитые, идейно реакционные. Это надо иметь в виду, особенно тогда, когда мы говорим о «воинственном неприятии» революционным субъектом «старой культуры». И это неприятие имело вполне конкретного адресата, имея в виду в первую очередь - мещанина от революции и культуры. Но такой взгляд - с позиции критики мещанства - сам в свою очередь предполагает определенный уровень развития культуры.
Мещанин как агент частного интереса всегда активизируется в ситуациях исторического излома в надежде, что за спиной революционных сил (каких - это для него уже не столь важно) и посредством их ему удастся пристроиться в «партере» нового общественного расклада. Отсюда идеологический цинизм мещанина, готового вставать под любые знамена тех, кто сегодня у власти, и не важно - это власть капитала, институтов, идеи или традиции. «Обыватель всегда враг революции: если явный, то жестокий, если скрытный, то трусливый. Всегда слуга, раб сильного » - очень точно подметил В. Плетнев.
Революционная ситуация 1920-х гг. не стала исключением. Но если в политике мещанин еще как-то мог прикрыть свою суть под маской угодливого служения лозунгам дня, то его предпочтения, вкусы и проявления в культуре, будучи alter ego его идейной позиции, выявляли его сущность достаточно откровенно. Для революционного субъекта, борющегося с белогвардейцами и Антантой, едва ли не бóльшим противником был именно мещанин, причем именно «революционный» мещанин, у него было даже свое революционное имя - «контра ». Не случайно Маяковский объектом беспощадной критики выбирает в первую очередь партийного мещанина. Революционный субъект также остро реагировал на это мещанство: «Обыватель вырастает в контрреволюционную разлагающую силу. Обывательщина - это туберкулез борющегося класса» . Обострение мещанства было особенно заметным, когда ослабевали позиции революционных масс, и тем сильнее становилось противостояние ему уже на уровне отдельной личности. Это противостояние нашло свое выражение и в литературных практиках Пролеткульта. Вот одно из них:
«Понастроили заборов, понавешали замков
От бродяг и босяков
И открыть боятся двери
И живут в плену как звери:
Всем соседям я чужой
Я - лишь мой
В вашем сердце только зависть
В вашем сердце только страх
Мысль вседневна о ворах
И на окнах всюду ставни
Можно ли быть еще безславней
В светлый день бродить в тюрьме
Жить во тьме
Тот, кто скажет правду громко, нарушает
Тот покой
Темной кельи гробовой
Не спасут замки и двери - ни снаружи, ни снутри
И ворвется свет зари
В ваши смрадные могилы
Где погибли ваши силы
Где не скрылись от судьбы
Вы - рабы
Прочь затворы и заборы -
Вся земля нам дом родной
Жить свободно будем в нем
Эй, садись, пока не поздно!
Ветер свищет и поет
Противостояние революционного субъекта и обывателя имело настолько трагическое измерение, что мимо него не смог пройти ни один крупный художник того времени. И уж тем более, со своей идейной позиции, эту тему не мог обойти Пролеткульт. Вот что писал журнал «Пролетарская культура» - издание Одесского Пролеткульта в 1919 г.: «Везде по всей шири Дерибасовской …вы встречаете одно и то же лицо, пошлое, размалеванное, продажно-лживое лицо-маску послереволюционной буржуазии … Вся Одесса сверкает, звенит и гремит театрами… Не опера и драма, конечно. Это оперетта. Фарс, варьете. Это Пьеро, король одесских театралов. Это Вертинский в шутовской одежде со своими песенками, написанными не кровью и чернилами, а помадой и румянами» . Кстати, этот номер журнала Одесского Пролеткульта выпускался в условиях гражданской войны, и потому на его обложке можно встретить следующую надпись: Дозволено военной цензурой .
А вот еще один пример. По поводу одного литературного вечера, на котором поэт И. Северянин читал стихи «Ананасы в шампанском», другой писатель несколько позже в своей газетной статье напишет следующее: «В том же городе, где истомленные голодом рабочие, еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию, …в том же городе вечером один господин визжит со сцены другим про ананасы и шампанское ». Эти слова не из яростных агиток Пролеткульта. Они принадлежат писателю Андрею Платонову, которого рапповские критики 20-х гг. называли «попутчиком второго призыва».
Не менее напряженной в этом отношении была и ситуация в период НЭПа, о чем достаточно красноречиво было написано в редакционной статье журнала «Рубежи» (1922 г.): «…с одной стороны, культурная спячка, массовая безграмотность, мертвый индифферентизм; с другой стороны, - литературный рынок... наводняется потоком новых (верней, конечно, самых старых) изданий и изданьиц, выросших, как фениксы из пепла, из нэповского навоза: и центр, и провинция покрываются плевками мерзких театров и театриков, в том числе, и многих из так называемых «рабочих театров», лекционные залы переживают резкий подъем богоискательства философского и литературного и т. д., и т. п. И вся эта муть, поднявшаяся со дна взбаламученного НЭПом обывательского моря, без труда находит себе аудиторию: всеобщая, как следствие разрухи, нервная издерганность и умственная отупелость, чем более затаенная, тем более острая ненависть к Революции одних, непонимание происходящего, и отсюда моральная растерянность других, неверие в свои силы и безграничная разочарованность третьих - вот психологическая база НЭПа» .
Так что неприятие мещанства являлось важнейшей содержательной составляющей сложного феномена, именуемого «неприятием буржуазной культуры». Но одновременно неприятие «старой» культуры имело и свои обывательские корни, ибо в ряды революционных масс всегда включены те, кого принято называть «мелкобуржуазным элементом», без этого не обходится ни одна революция.
И, наконец, четвертый . Это проблема общественной актуальности того или иного произведения искусства для конкретного субъекта в конкретно-исторической ситуации. Вот один из примеров: в 1920-е гг. пьесы Чехова не вызывали большого интереса у революционного субъекта. Сами идеологи Пролеткульта это объясняли тем, что пьесы Чехова изначально не были адресованы рабочим «низам», и ставились в театрах они прежде всего не для них . Бесспорно, этот слабый интерес революционного индивида к драматургии Чехова легче всего объяснить бескультурностью и необразованностью революционных масс, тем более, что таковые действительно имели место. Но такое объяснение не дает подступа к ответам на целый ряд возникающих в связи с этим вопросов. Например: насколько актуальным могло быть содержание известной пьесы А. П. Чехова «Три сестры» для красноармейцев, недавно вышедших из боевых сражений с Врангелем или уезжающих на фронт? И почему в тех же красноармейских фронтовых театрах ставились такие пьесы, как «Разбойники» Шиллера? И почему пьеса Гольдони «Турандот» стала символом революционного театра Вахтангова?
Культурные практики 1920-х гг. показали, насколько успешно большевиками решалась проблема социальной доступности классического наследия и насколько непростым оказался вопрос его общественной актуальности для революционных масс. В любом случае за этим фактом была скрыта достаточно серьезная проблема, которая давала о себе знать в культурных практиках не только «низов», но и самой творческой интеллигенции того времени. В этой связи особый интерес представляет фрагмент из письма К. С. Станиславского, отправленного им в 1922 г. из Америки, где он тогда находился на гастролях со своим коллективом. Вот что писал он в этом письме В. И. Немировичу-Данченко: «Даже и не знаю, что писать! Описывать успех, овации, цветы, речи?!.. Если б это было по поводу новых исканий и открытий в нашем деле, тогда я бы не пожалел красок и каждая поднесенная на улице роза какой-нибудь американкой или немкой и приветственное слово получили бы важное значение, но теперь... Смешно радоваться и гордиться успехом «Федора» и Чехова. Когда играем прощание с Машей в «Трех сестрах», мне становится конфузно. После всего пережитого невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радует. Напротив. Не хочется его играть... Продолжать старое - невозможно, а для нового - нет людей» .
Итак, мы видим: как революционные «низы», так и творческая интеллигенция, при всей разности их культурного уровня, сталкиваются с одной и той же проблемой. И дело здесь вовсе не в художественных достоинствах пьесы А. П. Чехова, а в степени сопряжения ее содержания с жизненно важными интересами: в первом случае - революционных субъектов, действующих в конкретных исторических условиях, во втором - деятелей искусства.
История культуры не раз демонстрировала одну из ее закономерностей: степень общественной (не художественной) актуальности того или иного произведения искусства определяется мерой сопряжения его с идейными запросами и движениями эпохи, с одной стороны, и тем, насколько оно отвечает на сущностные вопросы бытия конкретного индивида - с другой. А ведь эти вопросы нередко вызваны необходимостью обоснования онтологических основ и этических принципов личностного бытия, что становится особенно актуально для человека в ситуации исторического излома.
Сегодня, в условиях доминирования абстрактных форм мышления, подход конкретно-исторического анализа представляется некоторой архаикой и излишеством. И, тем не менее, нельзя не признать, что каждая эпоха выстраивает в культуре свои общественные приоритеты (имена, направления, жанры и стили), не обязательно при этом оспаривая художественное достоинство тех произведений искусства, которые оказались вне их. «Общественная актуальность» и «художественное достоинство произведения» - это все-таки разные вещи. Здесь нет прямой и формальной взаимосвязи содержания искусства и истории. Диалектика этого отношения достаточно тонка и сложна, но в любом случае она заставляет задуматься, хотя бы для полемики, в том числе и над такими выводами Пролеткульта: «Нет ничего вечного и постоянного. Все существует лишь для своей эпохи и умирает вместе с ней. В том числе и искусство » .
Вообще надо сказать, что проблема актуальности классики в условиях революционных перемен вызвала к жизни одно глубокое противоречие. Оно заключалось в следующем: тяжелая и трагическая борьба революционных масс за освобождение от власти прежних хозяев их жизни, несущей для них войны, эксплуатацию, унижение и задавленность, - все это востребовало своего выражения на языке искусства, но такое выражение не могло появиться вдруг, оно должно было вызреть, а это, как и любой процесс становления, требует времени. Но мощь и масштаб исторических перемен 1920-х гг. со всем трагизмом общественного излома и глубоким оптимизмом созидания нового мира - все это требовало «своего» искусства, и незамедлительно.
Откуда же это «свое» искусство могло взяться?
Несмотря на отдельные художественные удачи, сам пролетариат его создать не мог. В результате это противоречие нередко разрешалось пролеткультовскими «низами» посредством механического приспособления классики к своему идейному и жизненному запросу. Вот один из примеров такого подхода: «Если содержание пьесы частично для нас кажется неподходящим, мы выкидываем его и вкладываем в речи героев свое содержание. И мы не видим в этом ничего варварского, потому что автор, как таковой для нас мало имеет значение. Если Чехов, предположим, написал какое-нибудь произведение, то пусть для него оно и существует, а мы на сцене из него сделаем то, что нам нужно для организации нашей жизни» .
И таких примеров можно привести немало.
культура: отношение к отчуждению
Надо сказать, что вопрос определения степени буржуазности «старой» культуры оказался тем вопросом, который объективно выявил и методологическую позицию идеологов Пролеткульта. На этой позиции выстраивалась вся их концепция пролетарской культуры, начиная с классово-механистического понимания ее основы. При некоторых поправках эта позиция исходила из, казалось бы, бесспорного тезиса о классовом характере культуры. И действительно, классовый характер общественных отношений пронизывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и культуру. Но применительно к культуре классовость как таковая непосредственно затрагивает прежде всего природу тех общественных форм, в которых она существует и развивается. Например, произведение искусства может существовать в одном случае как чья-то частная собственность или как товар в пространстве частной галереи, и это будет одна форма его общественного бытия; в другом случае - как всеобщее музейное достояние, доступное для всех желающих, и это будет уже другая форма его бытия. Если говорить непосредственно о самом его содержании, то оно в каждой из этих ситуаций остается неизменным. Но в любом случае форма бытия того или иного предмета культуры задается природой господствующих на этот период общественных отношений, и в случае существования в обществе классов она также неизбежно обретает классовый характер.
И совершенно другое дело, когда мы затрагиваем вопрос о классовости художественного содержания того или иного произведения искусства. Решение этого вопроса обнаруживает свою несостоятельность уже на уровне определения критерия классовости. Что может выступать в качестве такового? Социальное положение творца? Но тогда что делать с крепостным художником Тропининым, который писал замечательные портреты помещиков? И уж тем более неправомерно проводить тождество между художественной позицией автора, его идейным мировоззрением и социальным происхождением. Например, монархические взгляды О. Бальзака, сторонника династии Бурбонов, никак не помешали ему в своем творчестве дать художественную критику общественной системы Франции того периода. Вот что об этом писал Ф. Энгельс: «Бальзак... дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества.....из которой я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов - историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» .
Или, может быть, «классовость» следует определять через социальное положение того, к кому адресовано художественное послание? Но искусство имеет природу конкретно-всеобщего , и потому оно адресовано всем и каждому в отдельности, причем независимо от его классового происхождения и положения. Или, может быть, в качестве критерия классовости надо рассматривать поднимаемую в произведении тему? Но этот критерий был характерен для практики превратных форм соцреализма (не путать с творческим соцреализмом).
А если под «классовостью» понимать принципиальность художественного мировоззрения, художественной позиции автора, то в этом случае надо говорить уже о гуманистической подоплеке произведения искусства. И здесь в качестве критерия гуманизма следует рассматривать уже такое понятие, как «отчуждение». Именно отношение к отчуждению как раз и является тем критерием, который определяет меру гуманизма того или иного произведения искусства.
Но отношение к феномену отчуждения бывает разным. В одном случае художник в своем произведении лишь объективистски констатирует феномен отчуждения (или самоотчуждения), что в определенном смысле выступает формой художественной легитимации той позиции, согласно которой отчуждение, конечно, есть зло, но оно неизбежно и неизменно. В другом случае это отношение проявляется в форме протеста против мира отчуждения . В третьем - отношение к проблеме отчуждения проявляется в форме критики , но не самой его сущности как таковой, а лишь порожденных им конкретных форм действительности .
И, наконец, подлинно критическое отношение (оно было характерно для освободительной тенденции советской культуры), предполагающее диалектическое снятие конкретно-исторической формы отчуждения.
Идеологи Пролеткульта, включая А. Богданова, не уловили диалектики снятия классовости применительно к художественной культуре. Оказавшись на позиции недиалектического понимания культуры, с одной стороны, и сохраняя формально-пролетарскую риторику - с другой, идеологи Пролеткульта неизбежно оказывались на позиции классово-механистического толкования культуры. Не случайно А. Гастев называл А. Богданова схематиком .
«буржуазная культура» и революционный вандализм
Рассматривая отношение Пролеткульта к культуре прошлой эпохи, следует отметить, что при всем неприятии «буржуазной культуры» ни в одном из пролеткультовских журналов, по крайней мере, тех, что попадались в руки автору, не встречалось прямых призывов к ее практическому уничтожению. В изданиях Пролеткульта нередко можно было встретить отношение отрицания «буржуазной культуры», например, в такой форме: «Путь культурной самостоятельности требует от избравших его пролетарских организаций …революционной смелости . Переоценка ценностей в области культуры не должна ограничиться лишь борьбой против очевидно-нелепых мещанских наносов и заимствований. Она должна идти в плоскости отрицания буржуазной культуры в ее целом, оставляя за последней лишь историческую и техническую ценность » .
Или, например, в такой форме: «Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся .
Конечно, нельзя не признать, что в среде Пролеткульта существовала тенденция неприятия «старой» культуры, именуемой нередко «буржуазной». И это неприятие имело свои давние исторические корни. Но прежде, чем мы рассмотрим предпосылки этого явления, хотелось бы напомнить, что отрицание «прежней» культуры было характерно не только для революционных масс. Явления такого нигилизма имели место и в культурных сообществах. Так, например, Л. Н. Толстой отрицал Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана . Более того, как писал В. Шкловский, Толстой доходил в отрицании даже до самоотрицания, считая, что для истинного искусства ценны только две его вещи («Бог правду видит» и «Кавказский пленник») .
Но отрицание культуры еще не означает ее материальное уничтожение, хотя как идея и как некое художественное высказывание это имело место в практиках Пролеткульта. За отсутствием широкого выбора фактов на этот счет, как правило, приводят ставший уже хрестоматийным пример со стихотворением Владимира Кириллова «Мы» (1918 г.), в котором есть такие строки:
«Во имя нашего Завтра
— сожжем Рафаэля,
разрушим музеи,
растопчем искусства цветы »
Но уже через год, в 1919 г., тот же поэт пишет уже другие строки, ставшие также хрестоматийным примером:
«Он с нами, лучезарный Пушкин,
И Ломоносов, и Кольцов! »
Означает ли первый пример настроенность революционных масс на тотальное уничтожение культуры? Конечно же, нет. Означает ли второй пример отсутствие в самодеятельных практиках 1920-х гг. фактов революционного вандализма по отношению к культуре? Конечно, нет.
Сегодня в условиях господства мифологических форм сознания и широкого воспроизводства их на основе масс-медийных технологий («индустрии массового гипноза общих мест») происходит стирание границ между разными формами идеального (философией, идеологией, религией, искусством). Вот почему сегодня сама идея гносеологического подхода, особенно применительно к историческому дискурсу, воспринимается чем-то архаичным. В итоге это приводит к тому, что принцип научного анализа подменяется подходом даже не этического, а в некотором смысле судебного разбирательства, с вынесением соответствующего вердикта, не подлежащего пересмотру. Но ведь без научного анализа трудно разобраться, каковы были предпосылки революционного вандализма, его природа, границы, формы.
Конечно, «культурный» вандализм революционных масс был, и это трудно оспаривать, но он не был столь массовым, как его сегодня представляют. Не останавливаясь специально на этой проблеме, отметим основные причины «революционного» вандализма. Вот некоторые из них.
Во-первых , не надо забывать, что первые революционные преобразования, равно как и практики Пролеткульта, осуществлялись в ситуации гражданской войны, усиленной международной интервенцией против новой России. Как писал Л. Троцкий: «Ни белые, ни красные войска не склонны были очень заботиться об исторических усадьбах, провинциальных кремлях или старинных церквах. Таким образом, между военным ведомством и управлениями музеев не раз возникали препирательства » . Культурные же «издержки» любой войны (например, весьма «цивилизованной» Первой мировой войны, начатой «цивилизованными» европейскими государствами) всегда оборачиваются большими и неизбежными потерями, даже если одна из ее сторон ориентирована на сохранение культуры.
Во-вторых, чаще всего за проявлениями вандализма стояло разрушение лишь той части культуры, которая либо выступала инструментом подавления низов, либо была сращена с идеологическими символами прежнего политического режима.
В-третьих , любая революция наряду с пафосом культурного созидания и идеей качественного обновления мира неизбежно несет в себе и разрушение. Если бы не было этих разрушительных проявлений со стороны нового субъектного класса (что возможно лишь в том случае, когда он имеет высокий уровень культуры и образования), то в этом случае можно было бы обойтись одними реформами. Но именно это вековое отчуждение «низов» от культуры, наряду с неразрешенностью других классовых противоречий, обрело такие масштабы, что разрешение их потребовало революционной переплавки уже самих основ общественного устройства. Но Октябрьская революция несла далеко не только разрушение. Главный смысл ее Троцкий выразил следующим образом: «Рабочий класс России под руководством большевиков сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции» .
Понимание одного из наиболее болезненных противоречий Октябрьской революции, когда, разрушая старые формы жизни, она одновременно пытается в обновленных формах сохранить ее культурное содержание, - это понимание дается нелегко, но еще сложнее реализовать эту диалектику на практике, в чем в свое время признавался А. В. Луначарский. В любом случае, следует признать, что законы революционного творческого преобразования действительности в определенной степени сопоставимы с законами изменения мира культуры. Как писал Б. Эйхенбаум, крутые исторические переломы, в какой бы области культуры они ни совершались, никогда не исчерпывают себя в реформах, и потому навстречу «мирным» попыткам эволюции встает стихия революционная, пафос которой - в разрушении старых форм и традиций .
В связи с этим представляет интерес фрагмент из воспоминаний С. Эйзенштейна о своих переживаниях, связанных с его первым опытом осмысления законов искусства, в частности театра. Вот как он это описывает:
«И выползает мысль.
Сперва - овладеть,
потом - уничтожить.
Познать тайны искусства.
Сорвать с него покров тайны.
Овладеть им.
Стать мастером.
Потом сорвать с него маску,
Надо сказать, что деконструктивную составляющую несла и интеллигенция. Так, например, сторонники идей Театрального Октября (объединение левых театров) были нацелены на создание нового революционного театра, который, по их мнению, должен был исходить из отрицания законов классического театра.
Но общественная ситуация 1920-х гг., несмотря на все ее исторические изломы, была такова, что органика культурного пространства революционной России включала в себя самые разнообразные тенденции (и художественные, и идейные), и все они находились в сложных взаимосвязях, зачастую в противоборстве друг с другом, при этом каждая из них имела свой потенциал развития и свой исторический возраст, свои «болезни» и свои взлеты. И все это разное связывалось в единое целое острейшими противоречиями эпохи 1920-х гг., и, самое главное, - возможностью их практического разрешения, и, что еще более важно, - на основе социального творчества масс. Именно творчество революционных масс (включая и тех, кто составлял «низы» Пролеткульта), ориентированное на созидание новых общественных отношений по поводу решения самых разных проблем (обустройства школ, организации клубов , создания рабочих столовых , очистки железнодорожных путей от снега и т. д.), было главной предпосылкой того, что культура 1920-х гг. становилась сферой субъектного бытия как для художника, так и для революционных масс.
Вот один из документов того времени - воспоминания С. Эйзенштейна о 1920‑х гг.: «Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства: ликвидацией центрального его признака - образа - материалом и документом; смысла его - беспредметностью; органики его - конструкцией; само существование его - отменой и заменой практическим, реальным жизнеперестроением без посредства фикций и басен» . И далее:
«Кругом бурлит великолепная творческая напряженность двадцатых годов.
Она разбегается безумием молодых побегов сумасшедшей выдумки, бредовых затей, безудержной смелости.
И все это в бешеном желании выразить каким-то новым путем, каким-то новым образом переживаемое.
Упоение эпохой родит, наперекор декларации, вопреки изгнанному термину «творчество» (замененному словом «работа»), назло «конструкции» (желающей своими костлявыми конечностями задушить «образ») - один творческий (именно творческий) продукт за другим» .
Пролетариат: откуда появляется потребность в культуре
разлом обращает пролетариат к культурному наследию
Рассматривая вопрос отношения Пролеткульта к прошлому наследию, было бы несправедливо сводить его только к нигилизму. Это было бы неверно уже хотя бы потому, что пришедший к власти революционный субъект объективно был заинтересован в культуре: необходимость осуществления начатых им масштабных преобразований по организации нового жизнеустройства требовала и понимания, и знания, и умения. А необходимость этих преобразований диктовалась гигантским распадом прежних форм жизни.
Сегодня, когда революционная эпоха рассматривается и подается «СМИ-идеологией», с одной стороны, в виде сусальной канонизации безгрешных до святости русских царей, а с другой - в виде вульгарного и примитивнейшего пропагандистского лубка о злодеях-большевиках, объективно возникает вопрос: а какова в действительности была общественная ситуация накануне Октября 1917 года? Этот вопрос заставляет нас еще с большим интересом обращаться к историческим документам того времени. Вот один из них - фрагменты из дневника Л. А. Тихомирова, который был известен в прошлом сначала как революционер (активист организации «Земля и воля», «Черный передел», «Народная воля»), а затем как перешедший на монархические позиции автор нашумевшей книги «Почему я перестал быть революционером». Вот что писал он в своем дневнике в январе 1917 г.: «Я часто ломаю голову над вопросом, чем можно спасти монархию? И право - не вижу средств. Анархия полная. … Распоряжения глупые. Полная неспособность обуздать спекуляторов. Цены поднялись - до невозможности жить… И вопрос об измене ничуть не праздный, и все о нем кричат. …В перевороте видят единственный способ уничтожить измену… Знает ли это положение Государь? ….И это - вовсе не настроение одних «революционеров», не «интеллигенции» даже, а какой-то огромной массы обывателей… Теперь против царя - в смысле полного неверия в него - множество самых обычных «обывателей», даже тех, которые в 1905 г. были монархистами правыми и самоотверженно стояли против революции » .
И далее продолжает он: «В Москве - недостаток муки и хлеба. Истинно столпотворение Вавилонское. А «представители союзных стран» банкетуют с представителями нашей «общественности» и совместно говорят речи о грядущей победе. Мильнер также уже рисует в речи своей, как англичане будут устраивать нашу промышленность. Конечно, будут, как устраивают в Индии. Злополучная страна…. Загубила ее эта никуда не годная «интеллигенция», ничего не знающая кроме «прав человека и гражданина» да жалованье на партийной, общественной и казенной службе. Кто учил труду? Кто учил развитию сил , кто учил вырабатывать мозг страны? Все это «реакционно» <…> А наконец, и все мирное крушение неслыханной военной схватки… Но сумеет ли Россия устроиться или нет, а переворот какой-то, кажется, неизбежен » .
И уже в начале февраля 1917 г. Л. А. Тихомиров дает следующую политическую оценку общественному состоянию России на тот период: «Маньчжурская «авантюра» и нынешняя война! Это русская международная, мировая политика целого 20-летия. Ужасно. Никогда за 1000 лет мы не были в такой степени лишены смысла» . А через пять дней он выносит окончательный вердикт: «Правительство у нас совершенно беспристрастно говоря, никуда не годно . Мне кажется, что хуже быть не может. И все идет к перевороту …» .
А вот какая оценка этого кризиса была дана английским писателем, называвшим себя «эволюционным коллективистом» , Г. Уэллсом: «Самое потрясающее из впечатлений, испытанных нами в России, - это впечатление величайшего и непоправимого краха. Огромная монархия, господствовавшая здесь в 1914 году, с ее системой управления, общественных институтов, финансов и экономики, пала и разрушилась до основания, не выдержав беспрерывной шестилетней войны. История еще не видела столь чудовищной катастрофы. В наших глазах это крушение затмевает даже саму революцию. Под жесткими ударами империалистической агрессии насквозь прогнившая Россия, которая до 1914 года была неотъемлемой частью старого цивилизованного мира, рухнула и исчезла с лица земли.… » .
И вот в условиях этой разрухи необходимость создания новых форм жизни объективно заставляла революционного субъекта обращаться и к культурному наследию, и к «буржуазным спецам». Это находило свое выражение и в практиках низовых организаций Пролеткульта, в частности, в политике реактуализации классического наследия, но, как выяснилось, этот вопрос оказался достаточно непростым. Например, на страницах пролеткультовского журнала «Рабочий клуб» одни авторы писали о том, что «пора отказываться от старых актерских приемов «рычаловского трагизма» и комедийности в духе Островского » , а другие авторы заявляли прямо противоположную позицию: «Группа драмкружковцев смотрела «Лес» Мейерхольда и после этого устроила у себя беседу о виденных ужасах, об исковеркании Островского, который бы умер вторично, если бы встал из гроба » .
Пролеткульт, особенно его низовые организации, достаточно часто обращались к культурному наследию, особенно при формировании театрального репертуара рабочих клубов. Вот, например, какие имена были на афишах театральных студий Пролеткульта: Уитмен, Синклер, Бюхнер, Карл Озоль-Преднек . Причем отбор авторов шел на принципиальной основе: «Из репертуарных классовых пьес в репертуар пролетарских театров могут войти только те пьесы, которые не идут вразрез классовым задачам пролетариата и не повергают зрителей в тоску и уныние» .
А вот имена тех писателей, чьи произведения специально подбирались и публиковались в пролеткультовских журналах, альманахах, сборниках («Рабочий клуб», «Гудки», «Скрепа»): Скиталец, Мамин-Сибиряк, Серафимович, Гусев-Оренбургский, Гаршин, Чехов, Горький, Куприн, Л. Толстой, В. Вересаев, Мопассан, В. Поленц, О. Туманян, В. Бласко Ибаньес, М. А. Нексе, Б. Келлерман, Э. Золя, Л. Франк, Д. Лондон, Г. Сенкевич, Л. Мартович.
В пролетарском двухнедельнике «Скрепа» выходили произведения Мих. Артамонова, А. Блока, В. Нарбута, Б. Пастернака, Ант. Пришельца, С. Рубановича, Андрея Белого, Вяч. Шишкова, Б. Пильняка, Ал. Ремизова, Вл. Лидина, А. Чапыгина.
Такой широкий не только в художественном, но и в идейном отношении круг публикуемых в пролеткультовских изданиях имен нередко вызывал возмущение в среде пролеткультовцев: «Товарищи из «Скрепы»! Еще один такой пролетариат и я окажусь буржуем ….»
Кто будет создавать пролетарскую культуру?
пролетарскую культуру должен создавать только пролетариат?
Утверждение идеологами Пролеткульта идеи пролетарской культуры как особой формы общечеловеческой культуры неизбежно выводило на вопрос: если это так, то тогда в чем состоит, собственно, ее пролетарскость ?
Тогда, в 1920-е гг., этот вопрос был не праздным и довольно часто становился предметом жестких дискуссий не только в пролетарских кругах, но и среди творческой интеллигенции. По этому вопросу было несколько позиций.
Одни утверждали, что только пролетариат понимает, какой должна быть пролетарская культура, и только он один может ее создать.
Другие, соглашаясь с этим утверждением, шли дальше: да, это, конечно, так, но ведь пролетариат является частью народа, и потому за ним и надо признавать окончательное авторство пролетарской культуры. Именно об этом как раз и говорил Иванов-Разумник: «Пролетариату в будущем может предстоять только та же самая роль: сокрушив старые формы, он будет иметь возможность, он будет принужден построить новые формы цивилизации, и эти новые формы цивилизации тоже будут интернациональны и классовы. Но в них должно быть влито некоторое творческое содержание. Кто его вольет? Определенный класс, который идет за пролетариатом? Нет. Содержание это вливается не классом, а народом, и пролетариат как часть этого народа, как часть громадного целого, вливает и выявляет в новых формах культуру, которая для нас еще не ясна и которую представить себе мы можем только очень приблизительно » .
Популярность позиции Пролеткульта по поводу того, что только пролетариат может создать пролетарскую культуру, была вызвана еще одним обстоятельством. Дело в том, что революционный субъект, проживавший и переживавший всю остроту и мощь исторических потрясений, вызванных событиями I Мировой войны, двух революций, Гражданской войны, причем в их личностном и трагическом преломлении, искал человеческого отклика на все это в культуре. Но сказать, что искусство накануне революций 1917 г. было устойчиво обращено к пролетариату, - будет явным преувеличением. По большому счету, пролетариат был в некотором роде неприкаянным в художественном контексте предреволюционного времени. Даже Горький с позиции идеологов Пролеткульта считался недостаточно пролетарским. Вот что по этому поводу писал один из первых идеологов Пролеткульта В. Полянский (П. И. Лебедев): «Горький много раз пытался нарисовать фигуру рабочего, и она ему не удавалась. А ведь Горький - великий художник, вышедший из недр трудовых масс… Кто может правильно нарисовать фигуру, отразить верно ее настроение. Несомненно, только сам пролетариат…. Но и тут мы сделаем оговорку: не весь пролетариат… творцами новой культуры являются передовые рабочие, и мы имеем в виду главным образом индустриальный пролетариат» .
Такую же позицию П. И. Лебедев-Полянский отстаивал и в своем докладе «Революция и культурные задачи пролетариата»: «Но кто же все-таки может разрешить проблему пролетарской культуры? Только пролетариат. Только он - путем самодеятельности, путем революционного творчества; другие классы, вернее, группы общества, близкие пролетариату, разрешить этой задачи не могут .
Этот подход имел место и в резолюциях 2-й Петроградской конференции просветительских организаций Пролеткульта: «Пролеткульт призван создать свою художественную литературу и поэзию » . И далее: «Ярче, чем на первой конференции, она (резолюция - Л.Б.) подчеркивает, что «пролетарская культура… может строиться только самостоятельными усилиями того же пролетариата …»» .
Именно это утверждал и А. Богданов - один из ведущих идеологов Пролеткульта: «Выражение «пролетарская культура» означает именно ту культуру, которую вырабатывает новейший пролетариат - индустриальный » . Но если исходить из этого положения, то можно заметить, что ведь и сам Богданов не являлся представителем пролетариата, тем не менее, он не отказывал себе в праве на созидание научно-философских основ пролетарской культуры.
Следует отметить, что позиция Богданова по поводу того, что пролетарскую культуру может и должен создавать преимущественно индустриальный пролетариат, была достаточно популярна. Вот, например, какие аргументы приводились в ее поддержку в редакционной статье журнала «Пролетарская культура»: «Советская власть есть государственно-политическая организация; это, как значится на заголовке «Известий», власть, исходящая из Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Это - политический блок весьма различного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура пролетариата. Контроль и руководство блока вполне нормальны и целесообразны в деле государственной постановки просвещения для всех классов народа. Но ставить дело организации самостоятельного культурного творчества пролетариата под контроль и руководство идейных представителей крестьянства, армии, казачества, городской мещанской бедноты есть, по меньшей мере, большое унижение культурного достоинства рабочего класса, отрицание его права культурно самоопределяться» .
И этот же журнал в 1918 году писал: «В вопросах культуры мы - немедленные социалисты. Мы утверждаем, что пролетариат должен теперь же, немедленно, создавать для себя социалистические формы мысли, чувства, быта, независимо от соотношений и комбинаций политических сил. И в этом созидании политические союзники - крестьянская и мещанская беднота - контролировать его работу не могут и не должны» .
Здесь проявилось характерное для большинства идеологов Пролеткульта отсутствие диалектики, в частности, в понимании общественной природы диктатуры пролетариата. Диалектика подменялась формальным подходом. И хотя Богданов допускал, что не только пролетариат может создавать пролетарскую культуру, все же в качестве ее главного создателя он видел в первую очередь индустриальный пролетариат, оставляя за бортом интеллигенцию, крестьянство, служащих. Как же быть с ними? Ведь по отношению к ним вопрос субъектной и творческой реализации в культуре был не менее актуален, тем более, что эти слои трудящихся на тот период составляли социально доминирующую часть общества. Впрочем, А. Богданов допускает исключение: «Поэт может и не принадлежать экономически к рабочему классу, но если он глубоко сжился с его коллективной жизнью, действительно и искренне проникся его стремлениями… то он способен стать художественным выразителем пролетариата, организатором его сил и сознания в поэтической форме. Конечно, это может случаться не часто » .
Утверждение индустриального пролетариата в качестве доминирующего автора новой культуры было вызвано в некотором смысле политическим недоверием Богданова к другим социальным силам и его определенной боязнью их возможного и нежелательного влияния на сознание пролетариата. Об этом он говорит сам: «…пролетариату нужна своя поэзия. Чтобы не подчиниться чужому, поэтическому сознанию, сильному своей многовековой зрелостью, пролетариату надо иметь свое поэтическое сознание, непреложное в своей ясности…» .
Т. е., согласно позиции Богданова, получается так, что до революции в вопросах культуры пролетариат был классом для иного , а после революции он становится классом для себя ?
Казалось бы, формально похожие утверждения делают и представители низовых структур Пролеткульта, но за этими утверждениями стоит еще и отстаивание пролетариатом завоеванного в смертельных и еще не закончившихся сражениях Гражданской войны своего права как класса на творческую состоятельность в качестве субъекта культуры. «Вам нашего искусства не надо, но вы убеждены, что мы его не создадим. Но это заблуждение: великий класс, победив вас экономически, победит вас и культурно. С той поры как красноармеец вернется с войны, с той поры, как рабочий и крестьянин победят голод, начнется расцвет нашей культуры, нашего искусства . В нашу жизнь и в вашу смерть мы верим непоколебимо » , - так писал журнал «Пролетарская культура» в 1918 году.
Период 1920-х гг. бурлил общественными дискуссиями по поводу того, кто может и кто должен создавать пролетарскую культуру, выявляя все разнообразие позиций по этому вопросу. Вот некоторые из них:
Надо сказать, что позиция большевиков, и в первую очередь Ленина, была резко критической по поводу пролетарского авторства так называемой особой пролетарской культуры. Например, после прочтения статьи В. Плетнева «На идеологическом фронте», в которой автор утверждал: «Задача строительства пролетарской культуры может быть решена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды» , Ленин, подчеркнув в этой фразе слова «только» и «его», на полях заметил: «Архифальшь ». Рядом с другой фразой: «Пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим », вождь написал: «Вздор ». В итоге он пришел к неутешительному для автора статьи выводу: «Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться » . И с этим, конечно, было трудно спорить.
Итак, Октябрьская революция 1917 г. выявила одно очень глубокое противоречие: пролетариат, героически и плодотворно осуществляя себя как субъект, т. е. как творец истории, в тоже время быть творцом собственной культуры не мог. В связи с этим напрашивается вопрос - тогда зачем пролетариату нужно было вести все эти исторические битвы? Во имя чего? Во имя только куска хлеба и политической гегемонии? И если так, то тогда в чем состояла социалистичность Октябрьской революции, отличающая ее от других типов революций? В любом случае вопрос - откуда революционным массам взять свою культуру - оставался открытым. Если пролетариат не может ее создать, то тогда возникает вопрос - кто сможет? Интеллигенция? Да, интеллигенция, может быть, и сможет, но захочет ли? Зачем ей обслуживать чуждый ее интересам и тем более ее вкусам пролетариат?
Из всего этого, казалось бы, напрашивается далекий от оптимизма вывод: если пролетариат объективно не мог создавать «свою» науку и «свое» искусство, то не означает ли это, что для него оказывалась закрытой дорога к творчеству вообще? Ведь культура, как принято считать, является едва ли не единственным пространством креативности. Этот вопрос обретал особую актуальность еще в связи с тем, что характер труда пролетариата, как правило, в тот период был далек от творчества; еще долгий и долгий период этот труд оставался чаще всего физическим и тяжелым. Это одна сторона вопроса.
откуда пролетариат возьмет волю к творчеству?
Была и другая: даже в случае, если у пролетариата и была бы возможность созидать культуру, спрашивается - откуда у него появится сам посыл к творчеству, да еще у целого класса? Да, революция дает пролетариату возможность созидать, но откуда у него возьмется эта воля к творчеству , если до этого он веками был отчужден от него, равно как и от самого культурного наследия? Ведь сама возможность созидания еще не рождает интенций творчества, воли к творчеству , а без этого не может быть никакой культуры.
Этот вопрос ставился на повестку дня в 1920-е гг. представителями разных культурных и идейных кругов, хотя и с позиции разной заинтересованности в его решении. Вот, например, что говорил по этому поводу Н. Н. Пунин: «Пролетариат пришел не для того, чтобы поглотить цивилизацию тех или иных классов, но чтобы раз навсегда доказать всем классам, что в нем живет организованная воля к творчеству, к творчеству все новых и новых форм бытия, к творчеству все более сложных и качественно все более прекрасных ценностей, показать, доказать и тем самым навсегда разрушить и смыть всякие попытки тех или иных классов процвести чудными и роскошными ростками на плечах человечества. Вот так понимаю я задачу пролетариата и так связываю я эту задачу с его культурным строительством» .
А вот как вопрос о воле к творчеству ставил А. А. Мейер, являясь представителем уже другого идейного течения: «Когда спрашивают, какова будет роль пролетариата, то хотелось бы к этому прибавить еще такое слово - какова она должна быть, какова должна быть здесь воля самого пролетариата, ибо если это нечто живое, то оно должно обладать волей, и если это только механически складывающаяся вещь, то, конечно, тогда ни о какой культуре говорить не приходится » .
Так вот, воля к творчеству у революционного субъекта была, и это была именно революционная воля. И возникала она не из абстрактной любви в креативности, а из жестких материальных условий: разрухи, вызванной I Мировой войной и навязанной международной военной интервенцией, а также из неразрешенности тех противоречий, которые взорвались революциями 1917 г., разламывая жизненную ситуацию едва ли не каждого, со всем нажитым укладом и человеческими связями.
Именно эти противоречия действительности как раз и заставляли революционного субъекта обращаться к культуре, с одной стороны, как к источнику знания, мастерской и инструментарию, а с другой - как к миру отношений, свободных от подавления человека человеком и, более того, утверждающих достоинство человека, причем не абстрактного, а прежде всего - человека труда.
Итак, как выясняется, воля к творчеству у революционного субъекта была, но это не решало два основных вопроса, которые мы еще раз повторим.
Первый: на каком поприще пролетариат может реализовать себя как субъект творчества, кроме истории, кроме баррикад?
Второй : кто все-таки может создать культуру, которая была бы Для пролетариата, От пролетариата и О пролетариате?
Эти вопросы тогда, в 1920-е гг., требовали безотлагательного разрешения.
Решений было несколько, но об этом речь пойдет уже в следующей статье.
На машиностроительном заводе «Дукс» силами и средствами рабочих (из необходимых 50 тыс. руб. 30 тыс. были собраны рабочими) был создан клуб-столовая. См.: Рабочий класс Советской России в первый год диктатуры пролетариата // Сборник документов и материалов. М., 1964. С. 300-301. 2-ая Петроградская конференция пролетарских культурно-просветительских организаций. 5-9 июня 1919 г. // Пролетарская культура. 1918, № 2. С. 32.