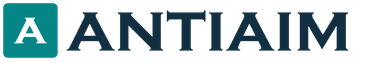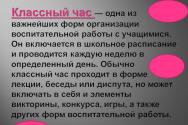Ремарк «На западном фронте без перемен. «На Западном фронте без перемен» Эрих Мария Ремарк
Наконец, осенью 1928 года появляется окончательный вариант рукописи. 8 ноября 1928 года, накануне десятой годовщины перемирия, берлинская газета «Vossische Zeitung» , входящая в концерн Haus Ullstein, публикует «предварительный текст» романа. Автор «На западном фронте без перемен» представляется читателю как обычный солдат, без какого-либо литературного опыта, который описывает свои переживания войны с целью «выговориться», освободиться от душевной травмы. Вступительное слово к публикации было следующим:
Vossische Zeitung чувствует себя «обязанной» открыть этот «аутентичный», свободный и, таким образом «подлинный» документальный отчет о войне.
Так появилась легенда о происхождении текста романа и его авторе. 10 ноября 1928 года начался выход отрывков романа в газете. Успех превысил самые смелые ожидания концерна Haus Ullstein - тираж газеты увеличился в несколько раз, в редакцию приходило огромное количество писем читателей, восхищенных подобным «неприкрашенным изображением войны».
На момент выхода книги 29 января 1929 года существовало приблизительно 30000 предварительных заказов, что заставило концерн печатать роман сразу в нескольких типографиях.
Роман «На западном фронте без перемен» стал самой продаваемой книгой Германии за всю историю. На 7 мая 1929 года было издано 500 тысяч экземпляров книги.
В книжном варианте роман был издан в 1929 году, после чего был в том же году переведён на 26 языков, в том числе на русский. Наиболее известный перевод на русский язык - Юрия Афонькина.
Основные персонажи
Пауль Боймер - главный герой, от лица которого ведется повествование. В возрасте 19 лет Пауль был добровольно (как и весь его класс) призван в немецкую армию и отправлен на западный фронт, где ему пришлось столкнуться с суровой действительностью военной жизни. Убит в октябре 1918.
Альберт Кропп - одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауль описывает его следующим образом: «коротышка Альберт Кропп самая светлая голова у нас в роте». Потерял ногу. Был отправлен в тыл.
Мюллер Пятый - одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауль описывает его следующим образом: «…до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены; под ураганым огнем зубрит он законы физики». Был убит осветительной ракетой, попавшей в живот.
Леер - одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауль описывает его следующим образом: «носит окладистую бородку и питает слабость к девицам». Тот же осколок, что Бертинку оторвал подбородок, вспарывает бедро Леера. Умирает от потери крови.
Франц Кеммерих - одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. До событий романа получает серьёзное ранение, приведшее к ампутации ноги. Через несколько дней после операции Кеммерих умирает.
Иозеф Бем - одноклассник Боймера. Бем был единственным из класса, кто не хотел идти добровольцем в армию, несмотря на патриотичные речи Канторека. Однако, под влиянием классного руководителя и близких он записался в армию. Бем погиб одним из первых, за два месяца до официального срока призыва.
Станислав Катчинский (Кат) - служил с Боймером в одной роте. В начале романа Пауль описывает его следующим образом: «душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга, - ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх на счет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства». На примере Катчинского хорошо видна разница между взрослыми солдатами, имеющими за своей спиной большой жизненный опыт, и молодыми солдатами, для которых война является всей жизнью. Был ранен в ногу, раздробление берцовой кости. Пауль успел отнести его к санитарам, но по пути Кат получил ранение в голову и умер.
Честно говоря, написать нечего. Почему-то, когда работа цепляет плохом смысле, слова сами находятся, отзыв строчится несмотря на время суток, а когда в хорошем... парализует. Но именно такие работы ценятся. Парализующие. Когда автор по голове огрел и невинно так в глаза смотрит: "Ну как тебе? Понравилось?" А ты еще пару минут в себя приходишь, разминаешь затекшие конечности и начинаешь писать ответ.
BOF
Ну вот… я начинаю отзыв не со своих слов, а с цитаты. Цитаты не великого писателя, гения, известного на весь мир, а простого человека, выразившего маленькую истину читателя. Читателя, который неловко стал просить о помощи написать о прочитанном произведении, что заслужило тоже самое, что громкий и подробный разбор опуса среднего, местами непонятного и сильно переборщившего с философией. Я парализована Ремарком. Он все еще может влиять на меня, несмотря на то, что знакомство мое с его книгами не первое. Он все еще вызывает во мне горечь, страдание, страх, любовь, милосердие, понимание и слезы… Слезы! Что в других книгах, наполненных трагической судьбой отсутствуют. Чудо вызвать искренность книжной потери при первом свидании с автором, но вечная влюбленность к возврату к строкам, написанным им, - это дар истинного писателя.
Ремарк единственный, чьи философские мысли понимаешь с первого же прочтения. Когда не приходится раз за разом вдалбливаться в текст, пытаясь понять, что же хотел сказать в своем произведении. Ремарк был и останется одним из моих любимых авторов.
lone.wolf
И эта цитата читателя, мимо которой я не смогла пройти. Просто и лаконично сказано. Да, здесь не нужно искать высший смысл, не нужно возвращаться и рекомендовать перечитывать книгу для пущего осмысления, перелопачивания чернозема, который на деле не так уж и плодороден, а вовсе песчаник.
Что можно сказать о войне, когда говорить о ней правду? Не дергать за струнки патриотизма, не говорить, что лицо врага было иным, нежели лицо правого. Война… это бой гладиаторов. Гладиаторов без Колизея. Она прошла, а в мире крутится та же пластинка: как были велики герои, как жалки враги; как нужна была кровь пролитая, как стоит вновь ей литься за страну; как лихи и бесстрашны молодые, так пусть же вновь под марш и чинный строй… падут:(Только вот последние слово невидимо и никогда не звучит в «гимнах-призывах». Не звучат в пафосных книгах слова о том, что нет между народами различий. Таких маленьких животных разрывают хитроумные и жестокие снаряды, а у этих существ нет никаких мыслей о ненависти к врагу… они на этом поле равные. Люди, что пришли умирать не за свои истины, не за свою честь… они умирают бессмысленно ради единиц. И вот из года в год, из столетия в столетие больна земля хронически войной, что рецидивирует в разных клинических случаях, рецидивирует остро, токсическими выстрелами распространяется, вызывая агонию и тление жизни. Как же надоело! Найдите лекарство.
… а пока нам стоит читать такие книги, как эта. Тогда есть надежда, что хоть и нет лекарства от неискоренимой хвори, но есть против неё анестетик, позволяющий крошечным существам не пасть хотя бы из-за своей наивности и веры в торжественный фарс, с которым их отправляли умирать.
толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы. Кат учит их:
– А это тридцатилинейка .
Слышите, вот она выстрелила, сейчас будет разрыв.
Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле
фронта. Кат прислушивается к нему:
– Сегодня ночью нам дадут прикурить.
Мы все тоже прислушиваемся. На фронте беспокойно. Кропп говорит:
– Томми, уже стреляют.
С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские батареи, справа
от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали
ровно в десять.
– Ишь, чего выдумали, – ворчит Мюллер, – у них, видать, часы идут вперед.
– Я же вам говорю, нам дадут прикурить, у меня перед этим всегда кости
ноют.
Кат втягивает голову в плечи.
Рядом с нами ухают три выстрела. Косой луч пламени прорезает туман, стволы
ревут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра утром снова будем
в бараках.
Наши лица не стали бледнее или краснее обычного; нет в них особенного
напряжения или безразличия, но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы
чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова; это
действительно так. Фронт, сознание, что ты на фронте, – вот что заставляет
срабатывать этот контакт. В то мгновение, когда раздается свист первых снарядов,
когда выстрелы начинают рвать воздух, – в наших жилах, в наших руках, в наших
глазах вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности,
обостренной чуткости, удивительной восприимчивости всех органов чувств. Все тело
разом приходит в состояние полной готовности.
Мне нередко кажется, что это от воздуха: сотрясаемый взрывами, вибрирующий
воздух фронта внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью; а может быть, это сам
фронт – от него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует
какие-то неведомые нервные окончания.
Каждый раз повторяется одно и то же: когда мы выезжаем, мы просто солдаты,
порой угрюмые, порой веселые, но как только мы видим первые орудийные окопы,
все, что мы говорим друг другу, звучит уже поиному…
Вот Кат сказал: «Нам дадут прикурить». Если бы он сказал это, стоя у
бараков, то это было бы просто его мнение, и только; но когда он произносит эти
слова здесь, в них слышится нечто обнаженно-резкое, как холодный блеск штыка в
лунную ночь; они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и
взывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь, –
слова эти с их темным, грозным смыслом: «Нам дадут прикурить». Быть может, это
наша жизнь содрогается в своих самых сокровенных тайниках и поднимается из
глубин, чтобы постоять за себя.
Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в
спокойных водах уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в
свою воронку, медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое
сопротивление.
Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы
защищаться, – особенно из земли. Ни для кого на свете земля не означает так
много, как для солдата. В те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко
сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко
зарываться в нее лицом и всем своим телом, она его единственный друг, его брат,
его мать. Ей, безмолвной надежной заступнице, стоном и криком поверяет он свой
страх и свою боль, и она принимает их и снова отпускает его на десять секунд, –
десять секунд перебежки, еще десять секунд жизни, – и опять подхватывает его,
чтобы укрыть, порой навсегда.
Земля, земля, земля!..
Земля! У тебя есть складки, и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с
разбега и можно забиться как крот! Земля! Когда мы корчились в предсмертной
тоске, под всплесками несущего уничтожение огня, под леденящий душу вой взрывов,
ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей! Смятение
обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки,
передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и
вцеплялись еще крепче в тебя пальцами, и, безмолвно, боязливо радуясь еще одной
пережитой минуте, впивались в тебя губами!
Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего
бытия на тысячи лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя, – это он руководит
нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности, он действует гораздо
быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя
объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке, и
где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки, а между тем ты не помнишь, чтобы
слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо
залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не
оста – лось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было
другое, то, похожее на ясновидение, чутье, которое есть у всех нас; это оно
вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не
знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до вогезов давно бы
уже не было ни одного живого человека.
Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как
только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми-
полуживотными.
Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных
кухонь. За лесом мы слезаем. Грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами
завтра до рассвета.
Над лугами стелется достающий до груди слой тумана и порохового дыма.
Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые
отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки,
кивающие головы, колыхающиеся стволы.
Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в
человеческие фигуры; солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как
из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется, все прямо и
прямо, фигуры сливаются в сплошной клин, отдельных людей уже нельзя различить,
лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и
винтовок медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди.
По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и
повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете, движения лошадей
красивы, они закидывают головы, видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки
скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта, всадники с их
касками кажутся рыцарями давно ушедших времен, в этом есть что-то красивое и
трогательное.
Мы идем к саперному складу. Одни взваливают на плечи острые гнутые железные
бруски, и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело.
Местность становится все более изрытой. Идущие впереди передают по цепи:
«Внимание, слева глубокая воронка», «Осторожно, траншея».
Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять
на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается; некоторые налетают
лицом на моток проволоки, который несут перед нами. Слышится брань.
Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда: «Кончай курить!» Мы
подошли вплотную к окопам.
Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами
открывается участок передовой.
Весь горизонт, от края до края, светится смутным красноватым заревом. Оно в
непрестанном движении, там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами
батарей. Высоко в небе взлетают осветительные ракеты – серебристые и красные
шары; они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от
времени в воздух взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый
парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг
освещено как днем, их свет доходит до нас, мы видим на земле резкие контуры
наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Тотчас же
повсюду взлетают новые, и вперемешку с ними – опять зеленые, красные и синие.
– Влипли, – говорит Кат.
Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота,
потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском
пощелкивают пулеметные очереди. Над нашими головами мчится, воет, свистит и
шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров, но
между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных «тяжелых
чемоданов», которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый трубный
звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь
пролегает высоко над воем и свистом обычных снарядов.
Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как
гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только
чуть подрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй; они скрещиваются,
между ними виднеется черное насекомое, оно пытается уйти: это аэроплан. Лучи
сбивают его с курса, ослепляют его, и он падает.
Мы забиваем железные колья в землю, на равном расстоянии друг от друга.
Каждый моток держат двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это
отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился
разматывать ее и расцарапал себе руку.
Через несколько часов мы управились. Но у нас еще есть время до прибытия
машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для
этого слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря: холод то и дело будит
нас.
Один раз мне удается уснуть крепко. Я просыпаюсь, словно от внезапного
толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты, и на мгновение мне
кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас
или вечер, я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-
вот должны прозвучать, – слов ласковых, домашних, – уж не плачу ли я? Я подношу
руку к глазам, – как странно, разве я ребенок? Кожа у меня нежная… Все это
длится лишь одно мгновение, затем я узнаю силуэт Катчинского. Он сидит спокойно,
как и подобает старому служаке, и курит трубку, – разумеется, трубку с
крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит:
– А здорово тебя, однако, передернуло. Это был просто дымовой патрон. Он
упал вон в те кусты.
Я сажусь, на душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что
рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит в сторону переднего края и говорит:
– Очень неплохой фейерверк, если бы только это не было так опасно.
Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через
несколько минут разрывается еще один, на этот раз ближе. Кат выбивает свою
трубку:
– Сейчас нам дадут жару.
Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удается сделать в
спешке. Следующий снаряд уже накрывает нас.
Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает
грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после
того, как стихает шум разрывов.
Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с льняными волосами. Он
закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь
нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок,
лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи
вздрагивают. Такие плечи были у Кеммериха.
Я его не гоню. Но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю
ее новобранцу на заднюю часть, – не для того чтобы подурачиться, а просто из тех
соображений, что сейчас это самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый
слой мяса, но ранение в это место – ужасно болезненная штука, к тому же
приходится несколько месяцев лежать в лазарете, все время на животе, а после
выписки почти наверняка будешь хромать.
Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами
слышны чьи-то крики.
Наконец грохот стихает. Огонь пронесся над нами, теперь его перенесли на
самые дальние запасные позиции. Мы решаемся поднять голову и осмотреться. В небе
трепещут красные ракеты. Наверно сейчас будет атака.
На нашем участке пока что по-прежнему тихо. Я сажусь и треплю новобранца по
плечу:
– Очнись, малыш! На этот раз опять все обошлось.
Он растерянно оглядывается. Я успокаиваю его:
– Ничего, привыкнешь.
Он замечает свою каску и надевает ее. Постепенно он приходит в себя. Вдруг
он краснеет как маков цвет, на лице его написано смущение. Он осторожно
дотрагивается рукой до штанов и жалобно смотрит на меня. Я сразу же соображаю, в
чем дело: у него пушечная болезнь. Я, правда, вовсе не за этим подставил ему
каску как раз туда, куда надо, но теперь я все же стараюсь утешить его:
– Стыдиться тут нечего; еще и не таким, как ты, случалось наложить в штаны,
когда они впервые попадали под огонь. Зайди за куст, сними кальсоны, и дело с
концом.
Он семенит за кусты. Вокруг становится тише, однако крики не прекращаются.
– В чем дело, Альберт? – спрашиваю я.
– Несколько прямых попаданий на соседнем участке.
Крики продолжаются. Это не люди, люди не могут так страшно кричать.
Кат говорит:
– Раненые лошади.
Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это
стонет сам многострадальный мир, в этих стонах слышатся все муки живой плоти,
жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Детеринг встает во весь рост:
– Изверги, живодеры! Да пристрелите же их!
Детеринг – крестьянин и знает толк в лошадях. Он взволнован. А стрельба как
нарочно почти совсем стихла. От этого их крики слышны еще отчетливее. Мы уже не
понимаем, откуда они берутся в этом внезапно притихшем серебристом мире;
невидимые, призрачные, они повсюду, где-то между небом и землей, они становятся
все пронзительнее, этому, кажется, не будет конца, – Детеринг уже вне себя от
ярости и громко кричит:
– Застрелите их, застрелите же их наконец, черт вас возьми!
– Им ведь нужно сперва подобрать раненых, – говорит Кат.
Мы встаем и идем искать место, где все это происходит. Если мы увидим
лошадей, нам будет не так невыносимо тяжело слышать их крики. У Майера есть с
собой бинокль. Мы смутно видим темный клубок – группу санитаров с носилками и
еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все.
Некоторые носятся еще дальше впереди, валятс
/>Конец ознакомительного фрагмента
Полную версию можно скачать по
Честно говоря, написать нечего. Почему-то, когда работа цепляет плохом смысле, слова сами находятся, отзыв строчится несмотря на время суток, а когда в хорошем... парализует. Но именно такие работы ценятся. Парализующие. Когда автор по голове огрел и невинно так в глаза смотрит: "Ну как тебе? Понравилось?" А ты еще пару минут в себя приходишь, разминаешь затекшие конечности и начинаешь писать ответ.
BOF
Ну вот… я начинаю отзыв не со своих слов, а с цитаты. Цитаты не великого писателя, гения, известного на весь мир, а простого человека, выразившего маленькую истину читателя. Читателя, который неловко стал просить о помощи написать о прочитанном произведении, что заслужило тоже самое, что громкий и подробный разбор опуса среднего, местами непонятного и сильно переборщившего с философией. Я парализована Ремарком. Он все еще может влиять на меня, несмотря на то, что знакомство мое с его книгами не первое. Он все еще вызывает во мне горечь, страдание, страх, любовь, милосердие, понимание и слезы… Слезы! Что в других книгах, наполненных трагической судьбой отсутствуют. Чудо вызвать искренность книжной потери при первом свидании с автором, но вечная влюбленность к возврату к строкам, написанным им, - это дар истинного писателя.
Ремарк единственный, чьи философские мысли понимаешь с первого же прочтения. Когда не приходится раз за разом вдалбливаться в текст, пытаясь понять, что же хотел сказать в своем произведении. Ремарк был и останется одним из моих любимых авторов.
lone.wolf
И эта цитата читателя, мимо которой я не смогла пройти. Просто и лаконично сказано. Да, здесь не нужно искать высший смысл, не нужно возвращаться и рекомендовать перечитывать книгу для пущего осмысления, перелопачивания чернозема, который на деле не так уж и плодороден, а вовсе песчаник.
Что можно сказать о войне, когда говорить о ней правду? Не дергать за струнки патриотизма, не говорить, что лицо врага было иным, нежели лицо правого. Война… это бой гладиаторов. Гладиаторов без Колизея. Она прошла, а в мире крутится та же пластинка: как были велики герои, как жалки враги; как нужна была кровь пролитая, как стоит вновь ей литься за страну; как лихи и бесстрашны молодые, так пусть же вновь под марш и чинный строй… падут:(Только вот последние слово невидимо и никогда не звучит в «гимнах-призывах». Не звучат в пафосных книгах слова о том, что нет между народами различий. Таких маленьких животных разрывают хитроумные и жестокие снаряды, а у этих существ нет никаких мыслей о ненависти к врагу… они на этом поле равные. Люди, что пришли умирать не за свои истины, не за свою честь… они умирают бессмысленно ради единиц. И вот из года в год, из столетия в столетие больна земля хронически войной, что рецидивирует в разных клинических случаях, рецидивирует остро, токсическими выстрелами распространяется, вызывая агонию и тление жизни. Как же надоело! Найдите лекарство.
… а пока нам стоит читать такие книги, как эта. Тогда есть надежда, что хоть и нет лекарства от неискоренимой хвори, но есть против неё анестетик, позволяющий крошечным существам не пасть хотя бы из-за своей наивности и веры в торжественный фарс, с которым их отправляли умирать.